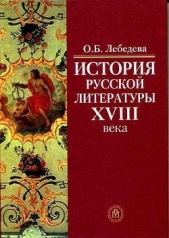Санскрит во льдах, или возвращение из Офира

Санскрит во льдах, или возвращение из Офира читать книгу онлайн
В качестве литературного жанра утопия существует едва ли не столько же, сколько сама история. Поэтому, оставаясь специфическим жанром художественного творчества, она вместе с тем выражает устойчивые представления сознания.
В книге литературная утопия рассматривается как явление отечественной беллетристики. Художественная топология позволяет проникнуть в те слои представления человека о мире, которые непроницаемы для иных аналитических средств. Основной предмет анализа — изображение русской литературой несуществующего места, уто — поса, проблема бытия рассматривается словно «с изнанки». Автор исследует некоторые черты национального воображения, сопоставляя их с аналогичными чертами западноевропейских и восточных (например, арабских, китайских) утопий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А. Блок в «Скифах» (1918) передал это архаическое ощущение силы:
Скифы и азиаты здесь — прилагательные, не они первоначальны, а мы, существительное.
это экстатическое переживание времени (времени нет, оно сжалось в некий час, в нем вся история, былая и грядущая), ощущение абсолютного избавления от тяжести истории, нравственных навыков, требующих осознанного поведения. Любое индивидуальное бытие платит страшные цены за индивидуальность, цены, быть может, несоразмерные, по воображению этого индивида, зато приобретает бесценное — себя. Безындивидуальное же «мы», при всей его завораживающей мощи, мертво, есть разновидность бесконечной (этим и привлекает) косности вещества, явление чистой природы, из которой индивид вырывается.
Страхи, сулимые Блоком от имени «мы», вполне реальны: архаизация содержит громадные импульсы разрушения, безусловно превосходящие культуру, и потому в высшей степени сомнителен выход (если так читать нижеследующие строки), избранный поэтом:
Братский пир под варварскую лиру — торжество архаики, ни во что ставящей индивидуальное существование; пир «мы», поглотивших «я», — один из смыслов этих строк. В романе Замятина этот‑то смысл и реализован: во всю идет предсказанный поэтом «братский пир» — ежедневные коллективные (и обязательные) трапезы.
Кошмар подобного братства, образом которого являются «мы», был предвиден (предчувствован!) А. Белым, который называл звук «ы» «животным зародышем» [64], а в «Петербурге» один из героев рассуждает:
«Все слова на еры тривиальны до безобразия<…>; например: слово рыба, послушайте: р — ы-ы — ы-ба; то есть нечто с холодной кровью… И опять‑таки м — ы-ы — ло: нечто склизкое…» [65].
«И вот говоришь себе: черт знает что со мной сделала жизнь. И хочется, чтобы Я стало Я… А тут мы… Я вообще презираю все слова на еры, в самом звуке ы сидит какая‑то татарщина, монгольство, что ли, восток» [66].
Эти значения «мы» не были разгаданы русским художественным авангардом, восславившим как раз то, что архаизует человеческое бытие. Конечно, создававшаяся веками художественная культура нуждается в стилевой «передышке», во время которой происходит «осмотр» созданного». В эти именно периоды может показаться, будто архаика способна обновить, освежить. Один из русских авангардистов, Владимир Кириллов, писал:
«Растопчем искусство» — это, если оставлять метафору в границах широко понимаемого стиля искусства как такового, могло означать упомянутую «передышку» (для глаза, уха, сознания). Однако русская художественная метафора (утопия — одна из ее разновидностей) всегда выходила из пределов стиля и переливалась в жизнь. «Растопчем искусство» становилось поведением бытовым, привлекавшим «мятежным, страстным хмелем».
В России архаическая стилистика («экстаз и подъем», «мятеж и хмель») притягивала, вызывала архаические переживания, оборачивалась бытовым поведением — разрушением, жертвами, вандализмом, падением уровня человека. Эти настроения провоцировала архаика русского авангарда, среди таковых настроений одним из сильнейших была психология «мы». В нем легко пропадает «я», потому что его культурно — исторический опыт куда слабее, меньше «мы». Не только в России — везде, в человечестве. Но в России, отлично от иных стран, слабость «я» перед «мы» сочеталась со слабостью цивилизационных средств, выработанных в поддержку «я». Оно в мире западноевропейском не было беспомощно, одиноко перед архаическим «мы» — именно по этой, я думаю, причине западный мир справился с фашизмом, вытолкнул его из своих недр, где тот появился. Фашизм как идеология и психология «мы» возможен везде — но в Европе сильны контрмеханизмы. В России их еще нет, буду надеяться, еще.
В этой среде архаика, дикость авангарда (дикость без кавычек, ибо это был не художественный, не только художественный, а жизненно — исторический стиль, русская история была, говоря метафорически, перманентно — авангардна) попросту смели те слабые ростки «я», которые пробивались. Все затопило «мы».
Опасность таится, разумеется, и в «я», в нем самом архаика сильна, но, повторяю, в западном мире не меньше сильна психотерапевтическая функция культуры — через систему, как я писал выше, цивилизационных учреждений, практики. В России этого не было, архаика «мы» была сильнее, эффектнее и эффективнее; ярче била в глаза, кружила головы, подмывала все бросить в горнило мятежа, экстаза. Очнувшись, находили, что надо «жить сначала», снова входить в человеческий мир, который не мог не казаться — за его удаленностью — призрачным, обманчивым. Невольно рождалось ощущение — из‑за отсутствия близкого и понятного сравнительного масштаба иного человеческого мира — будто твой собственный и есть истинный, правый, лучший — одно из самых глубоких, пагубных, труднопреодолимых убеждений — инстинктов архаического сознания.
Вот эту сторону архаики («мы») культивировал русский авангард — в соответствии с одной из сторон национального духовного опыта, явно подавлявшей другую (другие).
Пристрастие к архаике художественного «приема» («мы») показало, чем отличен русский авангард от западного, — тем, что у русского прием тянул за собой реставрацию (а, может быть, еще вернее сказать: усиление) отношений, некогда свойственных среде, где этот «прием» возник. Русский авангард вместе с приемом брал (распространял, усиливал, как это может искусство) образ жизни, что не было свойственно в такой степени авангарду западному. Для последнего «архаика», в сущности, игра, явление стиля; для русского — серьезное дело, жизнь, ибо архаика еще не ушла в историческую даль.
В декабре 1915 г. в Петрограде состоялась «Последняя футуристическая выставка картин 010». В ее основе — проект К. Малевича: свести все физические, предметные формы изображаемого мира к нолю и выйти за ноль.
«Выйти за ноль» — метафора настроений, распространенных среди участников выставки — инициаторов русского художественного авангарда, хотя не они первые выразили порыв к обновлению мира, либо уничтожив его и создав новый, либо выйдя из пределов старого. На этой‑то выставке К. Малевич обнародовал «Черный квадрат» (графическое подобие, можно допустить, черной лакированной кареты — квадрата, в которой за два года до выставки ездил герой «Петербурга», сенатор А. А. Аблеухов, мечтая о всемирном порядке, возникающем от пересечения взаимноперпендикулярных — как в квадрате — линий, и в точке пересечения городовой).
Полотну Малевича суждено было стать, помимо воли автора, но по логике метафорических смыслов, содержащихся в картине, символом того грядущего порядка, к которому страстно взывали русские авангардисты и о котором, независимо от них, грезил сенатор Аблеухов. Художница В. Ф. Степанова создала в 1919 г. рукописный плакат «Будущее — единственная наша цель», почти цитируя, без всякого умысла, эпизод из 4–го сна Веры Павловны: «Будущее светло и прекрасно. Любите его, работайте для него, приближайте его…» Таким страстным порывом к будущему объясняется, среди многих иных причин, отчего настоящее было так дурно; отчего человеку, ради которого хлопотали о будущем, было всегда плохо. Так бывало и, можно предположить с уверенностью, будет, когда утопическое намереваются превратить в реальное — один из уроков русской литературной утопии (сюда можно включить и художественную утопию) национальному сознанию.