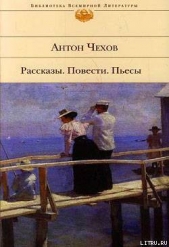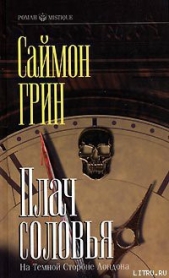Искусство и коммунистический идеал
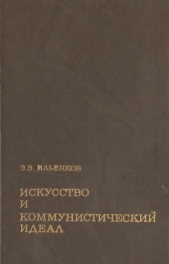
Искусство и коммунистический идеал читать книгу онлайн
Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-своему открывает нечто новое для всех, лучше других и полнее других выражая «суть» всех других людей, своими делами раздвигая рамки наличных возможностей, открывая для всех то, чего они не знают, не умеют, не понимают. Её неповторимость не в том, чтобы во что бы то ни стало выпячивать свою индивидуальную особенность, свою «непохожесть» на других, свою «дурную индивидуальность», а в том, что, впервые создавая (открывая) новое всеобщее, она выступает как индивидуально выраженное всеобщее».
Такой именно личностью был сам Э.В. Ильенков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Земля и небо, время и пространство и все границы чувственности исчезают для меня при этой мысли; как же не исчезнет для меня и индивид? К нему я не приведу вас обратно!» (Фихте).
Получалось что-то очень похожее на древнюю философию индийских мудрецов, которые достигали примерно такого же состояния — полной утраты самоощущения собственного Я — в нирване, в небытии, в ничто, в абсолютной смерти, где меркнут все краски, все страдания, всё. Достаточно лишь погрузиться в самозабвенное созерцание своего собственного пупа: сиди и смотри на него часами, пока не померкнет свет в глазах.
И если осуществление «недосягаемого идеала» Фихте все-таки попытаться себе представить чувственно-наглядно, то оно будет выглядеть так. Все отдельные Я, составляющие человечество, бросают свои земные дела и погружаются в созерцание своего «лучшего Я». Сидят и глядят в глубины своего Я, наслаждаясь самим актом созерцания абсолютной, бесконечной, бесцветной и беззвучной пустоты, в которой погасли все эмпирические различия, где нет ни неба, ни земли, ни индивида, а есть только «великое единое единство».
Разумеется, в таком Я нет никаких различий (стало быть, и разногласий и борьбы) именно потому, что само понятие «Я вообще», «Я как такового», «Я = Я» получено как раз путем абстрагирования от всех различий между реальными, «эмпирическими Я». Хотели получить понятие «подлинного Я» и получили… пустоту, как предел и идеал, как последнюю цель самоусовершенствования каждого отдельного Я. [135]
Подобный вывод неизбежен, если принять заранее ту логику, с помощью которой он был получен; вся этическая конструкция Канта и Фихте уходит своими корнями в толщу «Критики чистого разума», в систему излагаемых здесь логических правил мышления.
Толстая барыня из «Плодов просвещения» восклицала: «А как же можно отрицать сверхъестественное? Говорят: не согласно с разумом. Да разум-то может быть глупый, тогда что?»
У Канта, с его «чистым разумом», получается нечто похожее, хотя «глупым» его и не назовешь. «Чистый разум» не отваживается на окончательное суждение о «сверхъестественном» (есть оно или его нет?) именно потому, что он достаточно умен и слишком хорошо представляет себе свои собственные возможности, самокритично их оценивает.
«Критика чистого разума» обстоятельно излагает логику — науку о мышлении, разворачивает систему правил, схем правильного мышления. Кант хочет предварительно отточить инструмент, а уже затем с его помощью решить наконец, тщательно и аккуратно им пользуясь, все те проклятые вопросы, над которыми бьется целые тысячелетия «несчастное» человечество.
Прежде всего Кант попытался подытожить все то, что было сделано в логической науке до него, чтобы выявить в ее теоретическом багаже только бесспорное, только окончательно отстоявшееся и очистить науку от всех сомнительных положений. Он решил выделить в логике то ее непреходящее ядро, которое оставалось не затронутым никакими спорами, длившимися на протяжении двух тысячелетий, только бесспорное, только абсолютно очевидное для всех, для любого человека, чтобы строить дальше уже на абсолютно несокрушимом фундаменте. Такой фундамент, по замыслу Канта, должен быть совершенно независим от любых частных разногласий между философами по всем другим вопросам — по вопросу о природе и происхождении «мышления», об отношении мышления к вещам, к чувствам и настроениям человека, к его симпатиям и антипатиям и т. д. и т. п.
Выделив из истории логики искомый «остаток», Кант убедился, что остается не так-то уж много — ряд совершенно общих правил, сформулированных еще Аристотелем и его комментаторами. Отсюда и его вывод о том, что логике как науке со времен Аристотеля «не [136] приходилось делать ни шага назад, если не считать улучшением устранение некоторых ненужных тонкостей и более ясное изложение, относящиеся скорее к изящности, нежели к достоверности науки. Примечательно в ней также и то, что она до сих пор не могла сделать ни шага вперед, и, судя по всему, она кажется наукой вполне законченной и завершенной».
В самом подходе к делу отчетливо сказалось очень характерное для Канта стремление стать «над схваткой», стать «выше всех партий», выявить то, в чем они все согласны независимо от всевозможных разногласий, пререканий и противоречий, выявить в их взглядах только «тождественное», а все «различия» отбросить. Да, если бы истина добывалась так легко. Тогда лучшей логики и желать нечего…
Совокупность таких «общих» логических положений Кант и объединяет в «общую логику»: «Границы же логики совершенно точно определяются тем, что она есть наука, обстоятельно излагающая и строго доказывающая одни только формальные правила всякого мышления…»
«Одни только формальные» значит здесь абсолютно всеобщие, абсолютно-безусловные, совершенно независимые от того, о чем именно люди мыслят, каково «содержание» их мышления, какие именно понятия, представления, образы и термины в нем фигурируют.
Для логики важно одно: чтобы мысль, высказанная в словах, в терминах, сцепленных в сколь угодно длинную цепочку, не противоречила самой себе, чтобы она была с самой собою согласна. Все остальное логики не касается и касаться не может.
Очертив границы «общей логики», Кант тщательно исследует ее принципиальные возможности. Компетенция ее оказывается весьма узкой. В силу указанной «формальности», то есть принципиального безразличия к знаниям по содержанию, эта логика остается нейтральной не только, скажем, в споре Беркли со Спинозой, но и в споре любого из мыслителей с любым дураком, вбившим себе в голову самую смешную нелепость. Она обязана и нелепости вынести логическую санкцию, если та не противоречит сама себе. Так что самодовольная, согласная с собою глупость в глазах такой логики неразличима от самой глубокой истины. А как же иначе? Ведь «общая логика не содержит и не может содержать никаких предписаний для способности суждения», [137] способности «подводить под правила, то есть различать, подчинено ли нечто данному правилу или нет».
Значит, нужна иная логика или хотя бы новый ее раздел. Здесь уже нельзя отвлекаться от различия знаний по содержанию, от которого обязана отвлекаться общая, чисто формальная логика. И если «общая логика» формулирует самые общие и абстрактные «правила применения рассудка вообще», то новый раздел должен специально излагать правила применения рассудка к осмыслению реального опыта людей, то есть научного его применения. А здесь дело обстоит значительно сложнее.
Наука строится из обобщений, относительно которых она может представить более серьезные гарантии, чем просто ссылки на проделанный опыт. Иначе они имеют не большую цену, чем печально знаменитое суждение «все лебеди белы»: первый же попавшийся факт грозит их опрокинуть как карточный домик. И доверяться такой науке было бы небезопасно.
Один остроумный философ придумал несколько позднее забавную притчу, иллюстрирующую мысль Канта. Живет в курятнике курица. Каждое утро является хозяин и приносит ей зернышек поклевать. Курица, несомненно, сделает обобщение: появление хозяина связано с появлением зернышек. Но в один прекрасный день хозяин явится не с зернышками, а с ножом, чем и докажет курице, что ей не мешало бы обрести более серьезные представления о путях «обобщения»…
Суждения чисто эмпирического происхождения и содержания верны лишь по отношению к тому опыту, из коего они извлечены. Их нельзя ни в коем случае распространять на вещи, еще не побывавшие в этом опыте. Они верны, собственно, только с такой оговоркой: все лебеди, до сих пор побывавшие в поле нашего зрения, белые.
Научно-теоретические же суждения должны быть справедливы без такой оговорки. Отсюда и проблема — возможно ли, а если да, то почему, из протекшего «опыта» (стало быть, из части опыта) извлечь обобщение, претендующее на значимость и по отношению к будущему опыту? Почему мы убеждены, что суждение «все тела природы протяженны» не может быть опровергнуто дальнейшим опытом, сколько бы он ни длился, как бы широко он ни распространялся?