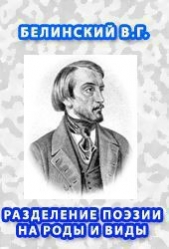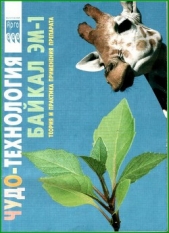Литературократия
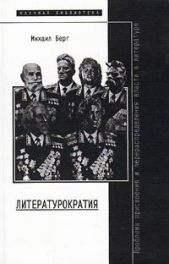
Литературократия читать книгу онлайн
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В то время как для Битова принципиально важна и ценна целостность образа писателя-мыслителя; он предпочитает псевдоочерковую форму аналитических заметок о проделанных путешествиях, и даже в тех случаях, когда жанр его произведения обозначается как роман или рассказ, за главным героем легко угадывается автор-интеллектуал. Сюжет, диалог, прочие беллетристические формы, идентифицируемые как вымысел, интерпретируются Битовым в виде условности, которую надо преодолеть 282. Дискурс Битова — бесконечный монолог рефлектирующего автора, что позволяет ему легко компоновать старые и новые произведения. В застойные годы он публиковал отрывки из романа «Пушкинский дом» в виде самодостаточных эссе, статей, заметок, что было бы невозможно, обладай роман неразрывным сюжетным единством. Деление на рассказ, статью, очерк, роман для Битова весьма относительно — все им написанное вполне представимо в виде целостного и непротиворечивого текста.
Выражение «по словам Битова» вполне может соответствовать и фразе, вырванной из контекста интервью, и реплике героя или фрагменту рассуждения очередного «рассказчика» (они почти тождественны) 283. В то время как выражение «по словам Ерофеева» имеет отношение только к его статьям: рассказчик или герои Ерофеева никогда не говорят ничего такого, что может быть приписано автору 284. Более того, общение героев Ерофеева неконвенционально; их реплики вполне театральны и обращены не друг к другу, а к невидимому залу, слушателю, читателю; к этим коротким высказываниям вполне подходит ремарка «в сторону».
Персонажи Ерофеева непсихологичны, а их социальный статус соответствует социальным ролям референтной группы Битова, власть которой Ерофеев присваивает с помощью операции reductio. В то время как письмо Битова — это психология мысли. События в его повествовании, как, впрочем, и сюжет, почти несущественны, любое событие — всего лишь повод для того, чтобы апроприировать право на его интерпретацию. Сюжет, как нечто искусственное и противоречащее «бессюжетной жизни», преодолевается естественностью и продолжительностью монолога; Битов не пророк, хотя неестественности вымысла противопоставляет правду жизни, но комментатор, резервирующий за собой прерогативы на ее оценку. Поэтому его не интересует чужая речь и диалоги, которые у Битова почти столь же условны и лишены даже отдаленного сходства с реальной разговорной речью, как разговоры героев в философских повестях Вольтера, которые обычно передаются косвенной речью. Но Битов фиксирует не речь, а ее концентрированное выражение — мысль; искусственность его беллетристических конструкций компенсируется интеллектуальной насыщенностью авторских отступлений. По Песонену, цель творчества Битова — поиск последних истин и объяснение действительности. «Последней целью бессвязного битовского повествования, подчеркивающего фиктивный и условный характер всего повествования, является <…> последняя истина и объяснение действительности» (Pesonen 1997: 177). Поэтому Битов предпочитает «открытый текст», «открытое высказывание», а кому принадлежит высказывание — рассказчику или герою — не имеет значения.
Проза Ерофеева, напротив, кажется куда более сюжетной. Хотя все его сюжеты нарочито пародийны и почти любое сюжетное построение — это реализованная метафора, синонимичная формуле присвоения власти. Скажем, рассказ «Жизнь с идиотом» (Ерофеев 1991) можно прочесть как историю любви массового сознания к идолу, который жестоко расправляется со своими поклонниками. Вовочка с рыжей бородой — это Ленин; бездетная парочка, берущая его в дом, — советская интеллигенция; семейный конфликт — противостояние правой и левой оппозиции; кровавая сексуальная драма — пародия на сталинские репрессии.
Обилие натуралистических подробностей и порнографические пассажи не противоречат эмблематичности и искусственности персонажей; искусственность позволяет отчетливее проявлять власть манипулятора-кукловода, а натуралистические детали подтверждают действенность и реальность управления: автор выдавливает из героев обильно льющуюся кровь и сперму, демонстрируя, наподобие того, как это происходит в массовой культуре, детективе или романе ужасов, власть над своими героями. А эмблематичность персонажей позволяет фиксировать те зоны поля культуры или поля политики, символический капитал которых присваивается.
Так как на первый взгляд по способу отбора необходимых черт герои Ерофеева больше всего похожи на канонических чудаков и экзотических типов, введенных в литературный обиход романтизмом, то, казалось бы, продуктивным может быть сравнение практики Ерофеева не с реалистической или натуралистической, а именно с романтической традицией. Принципиальное отличие, однако, позволяет обнаружить авторская позиция. Романтическая литература помещала своих чудаков и монстров в интеллигибельное пространство, ориентированное на особый статус автора, который соответствовал поиску выхода из характерной для классицизма оппозиции высокого-низкого, добра-зла и утверждению своей системы ценностей как приоритетной и, одновременно, общественно легитимной. Пространство, в котором функционируют иронические конструкции чудаков и монстров у Ерофеева, принципиально лишено даже подразумеваемой системы легитимных ценностей, но не потому, что такой системы ценностей нет у автора, а потому, что ее присутствие в пространстве текста привело бы к разделению перераспределяемой власти между автором и уже существующей системой легитимации. Не желая делиться, автор резервирует за собой право на присвоение всего объема власти, предлагая читателю легитимировать его практику как уникальную. Не случайно в ерофеевском дискурсе нет ни неба, ни земли, ни луны, ни солнца, способных затмевать, приглушать власть автора, а наличествует лишь конструкция социальных и культурных ролей и механизм присвоения их символического и культурного капитала сначала автором, а потом читателями. Автор препятствует возможности сопереживать своим героям (или в равной степени бессмысленно возмущаться), так как жалость и сочувствие препятствуют процедуре присвоения читателем чужой власти и чужих ценностей даже в символической форме. По той же причине образы этих героев (в противовес романтическим или реалистическим персонажам) даны без полутонов, они статуарны, не подлежат развитию и не отбрасывают теней, которые выдают отношение к ним автора. Это — бройлеры, выращиваемые в инкубаторе, кукольные марионетки, персонажи комедии масок; их слова, жесты — знаки, из которых автором сначала составляется узор, фиксирующий их положение в социальном пространстве, а затем совершается операция обмена, в которой читатель в обмен на присваиваемое им легитимирует авторскую практику сюжетного высказывания в очищенном от жизни пространстве.
Принципиальной представляется и роль рассказчика. Это еще одна стилизация, потому что не только герои Ерофеева — иронические версии «маленького человека» и «человека из подполья», но и сам автор выступает в роли «маленького человека», под которого стилизует свою роль повествователь 285, почти неотличимый от своих героев. Автор столь же монструозен, как и его персонажи, потому что не желает делиться властью даже со своими героями.
Это не только принципиальная дегероизация субъекта изображения, которая выражается в подмене героя психологической прозы жесткой конструкцией, но и столь же принципиальная дегероизация авторской функции. И. Смирнов определяет творческий акт актуализации монструозности как чудовищный, однако в условиях истощения возможности присвоения символического капитала типического (и, как следствие, отказа читателя от легмтимации его) подобная процедура экономически обусловлена. Но если Битов условности традиционного литературного повествования и вымыслу противопоставляет естественность, то Ерофеев присваивает культурный капитал потерявших силу условных литературных приемов, придавая им еще большую условность. Его стратегия не просто «направлена на выявление самим читателем еще не отрефлексированных форм мышления, на процесс узнавания читателем своей наивности и принятия за естественное того, что является навязанным ему прямым заявлением» (Постмодернисты 1996: 19), но и соответствует спросу, потребностям и интересам той референтной группы, которая не в состоянии присваивать энергию традиционных практик по причине их низкой социальной ценности.