Нации и национализм после 1780 года
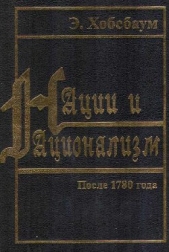
Нации и национализм после 1780 года читать книгу онлайн
Эрик Хобсбаум — один из самых известных историков, культурологов и политических мыслителей наших дней. Его работы стали вехой в осмыслении современного мира. «Нации и национализм после 1780 г.» — это, быть может, самое актуальное исследование Э. Хобсбаума для российского читателя конца 90-х годов XX века. Взвешенные и тщательно обоснованные аргументы британского ученого дают исчерпывающую картину формирования как самого понятия «нация», так и процесса образования наций и государств.
На русский язык творчество Э. Хобсбаума переводится впервые.
http://fb2.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава 5
Пик национализма, 1918-1950
Если существовал такой момент в истории, когда «принцип национальности» образца XIX века одержал победу, то случилось это по окончании Первой мировой войны, пусть даже подобный исход был совершенно непредсказуем и вовсе не входил в планы будущих победителей. В самом деле, к нему привели два события, на которые никто не рассчитывал: распад крупных многонациональных империй центральной и восточной Европы и Русская революция, побудившая союзников разыграть вильсоновскую карту против карты большевистской. Ибо, как мы могли убедиться выше, не национальное самоопределение, но, скорее, социальная революция представляла собой лозунг, действительно увлекавший массы в 1917–1918 гг. Можно, конечно, поразмышлять о том, какое воздействие на национальности континента оказала бы победоносная общеевропейская революция, но это будут пустые спекуляции. Послевоенное восстановление Европы (если исключить Россию) проходило отнюдь не на основе большевистской национальной политики. В первый и последний раз в своей истории европейский континент превратился в «картинку-загадку», составленную по-преимуществу из государств, каждое из которых определялось и как нация, и как некий вариант буржуазной парламентской демократии. Но этот порядок вещей оказался весьма недолговечным.
Межвоенная Европа стала свидетелем триумфа еще одного аспекта «буржуазной» нации (о котором речь шла во второй главе) — нации как «национальной экономики». Хотя большинство западных экономистов, промышленников и правительств мечтало о возвращении к мировой экономической системе 1913 года, это оказалось невозможным. Но если бы даже нечто подобное произошло, уже не могло быть подлинного возврата к экономике, основанной исключительно на принципах частного предпринимательства, свободной конкуренции и свободной торговли, представлявшей собой идеал, а отчасти даже реальность в мировом хозяйстве той эпохи, когда Британия находилась в зените своего могущества.
Уже в 1913 году капиталистическая экономика быстрыми темпами двигалась к созданию системы крупных корпораций, поддерживаемых, опекаемых и даже до известной степени руководимых правительствами. Война сама по себе резко ускорила тенденцию к формированию такой капиталистической экономики, управление и даже планирование которой осуществляет государство. И когда перед Лениным встала проблема плановой социалистической экономики будущего (о которой социалисты до 1914 года практически не задумывались), он взял за образец военную экономику Германии 1914–1917 гг. Разумеется, если учесть вызванное войной радикальное перераспределение экономической и политической власти в западном мире, то станет ясно, что даже возврат к подобной хозяйственной системе, основанной на союзе государства с крупным капиталом, не смог бы вернуть Европу к положению, существовавшему в 1913 году. И в сущности, любая попытка вернуться в 1913 год оказывалась утопией. Межвоенный экономический кризис явным образом способствовал формированию замкнутых «национальных экономик». В течение нескольких лет казалось, что сама мировая экономика стоит на грани краха: мощные потоки международной миграции иссякли, превратившись в тонкие ручейки, высокие стены валютного контроля препятствовали международным платежам, международная торговля сокращалась и даже международные инвестиции обнаруживали одно время признаки скорого и полного краха. А после
того как даже британцы вышли в 1931 году из Организации Свободной Торговли, представлялось очевидным, что все государства отчаянно стремятся окружить себя редутами протекционизма, — столь мощными, что это уже напоминало курс на полную автаркию (несколько смягчаемую двусторонними соглашениями). В общем, когда мировое хозяйство потрясла экономическая буря, мировой капитализм искал спасения в отдельных хижинах национальных экономик. Был ли этот процесс неизбежным? В теории — нет. Ведь реакцией на глобальные экономические ураганы 1970-х и 1980-х годов подобное бегство (пока еще) не стало. Однако в межвоенный период автаркия, вне всякого сомнения, наблюдалась.
Таким образом, положение вещей, сложившееся между двумя мировыми войнами, предоставляет нам отличную возможность оценить как потенциальную силу, так и слабость национализма и национальных государств. Но прежде чем обратиться к этой проблеме, бросим взгляд на ту модель национально-государственного устройства, которая была навязана Европе Версальским мирным договором и другими связанными с ним соглашениями. (Ради удобства и по логическим основаниям мы включаем сюда и англо-ирландский договор 1921 г.) Самый беглый взгляд мгновенно обнаруживает, что принцип Вильсона оказался совершенно неспособным привести государственные границы в полное соответствие с границами национальными и языковыми. А между тем мирные соглашения 1918–1919 гг. действительно попытались претворить этот принцип в жизнь, насколько это вообще было возможно (исключением стали некоторые политико-стратегические решения относительно германских границ и вынужденные уступки экспансионизму Польши и Италии). Как бы, to ни было, ни до, ни после Версаля, ни в Европе, |ни где-либо еще не предпринимались столь же целенаправленные и систематические попытки перекроить политическую карту по национальному принципу.
Но принцип этот попросту не работал. Ввиду вполне объективных этнических реальностей большинство новых государств, воздвигнутых на обломках прежних империй, оказались — совершенно неизбежным образом — столь же многонациональными, как и старые «тюрьмы народов», которым они пришли на смену. В пример можно привести Чехословакию, Польшу, Румынию и Югославию. Немецкое, словенское и хорватское меньшинства в Италии заняли место итальянского меньшинства Габсбургской империи. Главное отличие заключалось в том, что новые государства обладали, как правило, меньшими размерами, и «угнетенные народы» именовались теперь «угнетенными меньшинствами». Логическим следствием попытки создать континент, аккуратно разделенный на самостоятельные государства, каждое из которых имело бы этнически и лингвистически однородное население, стало массовое изгнание и уничтожение меньшинств. Именно таким было, есть и будет кровавое reductio ad absurdum [229] национализма в его территориальной версии, пусть даже это стало вполне очевидным лишь в 1940-х годах. Впрочем, массовые высылки и даже геноцид имели место у южных границ Европы уже в ходе Первой мировой войны и сразу по ее окончании, когда турки устроили в 1915 году резню армян, а после греко-турецкой войны 1922 года изгнали 1,3–1,5 млн. греков из Малой Азии, где последние жили со времен Гомера. [230] Позднее Адольф Гитлер — в этом смысле вполне последовательный националист вильсоновского толка — принимал меры к переселению в Германию тех немцев, которые жили за пределами «фатерлянда» (например, в итальянском Южном Тироле) — и выступал за поголовное истребление евреев. А после Второй мировой войны, когда на обширном пространстве между Францией и внутренними районами СССР евреев практически не осталось, пришел черед немцев, и теперь уже их высылали en masse из Польши и Чехословакии. После всего этого уже можно было понять, что создание однородного национального государства представляет собой цель, которую могут осуществить только варвары или, по крайней мере, только варварскими средствами. Одним из парадоксальных результатов открытия того факта, что полное совпадение государств с национальностями недостижимо, стала устойчивость границ, предусмотренных Версальским миром (абсурдных даже по стандартам Вильсона). Границы эти изменялись только в исключительных случаях, в угоду интересам великих держав: Германии — до 1945 г. и СССР — после 1940 г. Различные попытки перекроить границы государств, образовавшихся после распада Австро-Венгерской и Турецкой империй, не привели к прочным результатам, и сейчас они проходят примерно там же, где и после Первой мировой войны (если не считать адриатических территорий, после 1918 года присоединенных к Италии, а затем переданных Югославии). Но вильсоновская система породила и некоторые другие результаты, весьма знаменательные и не вполне ожидаемые. Во-первых, она продемонстрировала, — и этому не нужно удивляться — что национализм малых наций может быть так же нетерпим к меньшинствам, как и тот вариант национализма, который Ленин называл «великодержавным шовинизмом». Для знатоков Габсбургской Венгрии это, конечно, не стало особым открытием. Более важным и действительно новым явилось осознание того факта, что «национальная идея» в формулировке ее официальных поборников не обязательно совпадает с истинным самоощущением соответствующих народов. Плебисциты, организованные после 1918 года на территориях со смешанным населением и призванные определить, гражданами какого из претендующих на эти земли национальных государств станут их жители, выявили значительное число лиц, которые пожелали присоединиться к иноязычному государству. Данный факт можно было порой объяснять политическим давлением, подтасовками при голосовании или вовсе отделаться от проблемы ссылками на необразованность масс, их политическую незрелость и т. п. В принципе ни одна из этих гипотез не является абсолютно неправдоподобной. Тем не менее, наличие поляков, предпочитающих жить не в возрожденной Польше, а в Германии, или словенцев, избравших не вновь возникшую Югославию, но Австрию, сомнению не подлежало, пусть даже это обстоятельство было a priori непостижимо для людей, твердо веривших, что представители любой национальности непременно должны ощущать своим то государство, которое объявило себя ее политическим воплощением. Но подобная теория и в самом деле быстро завоевывала новых сторонников. Двадцать лет спустя именно она побудила британское правительство интернировать en bloc [231] большинство выходцев из Германии, в т. ч. евреев и эмигрантов-антифашистов, поскольку предполагалось, что любой человек, родившийся в Германии, сохраняет абсолютную лояльность этой стране.

























