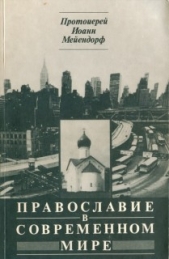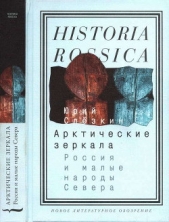Эра Меркурия. Евреи в современном мире

Эра Меркурия. Евреи в современном мире читать книгу онлайн
«Современная эра - еврейская эра, а двадцатый век - еврейский век», утверждает автор. Книга известного историка, профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина объясняет причины поразительного успеха и уникальной уязвимости евреев в современном мире; рассматривает марксизм и фрейдизм как попытки решения еврейского вопроса; анализирует превращение геноцида евреев во всемирный символ абсолютного зла; прослеживает историю еврейской революции в недрах революции русской и описывает три паломничества, последовавших за распадом российской черты оседлости и олицетворяющих три пути развития современного общества: в Соединенные Штаты, оплот бескомпромиссного либерализма; в Палестину, Землю Обетованную радикального национализма; в города СССР, свободные и от либерализма, и от племенной исключительности. Значительная часть книги посвящена советскому выбору - выбору, который начался с наибольшего успеха и обернулся наибольшим разочарованием.
Эксцентричная книга, которая приводит в восхищение и порой в сладостную ярость... Почти на каждой странице — поразительные факты и интерпретации... Книга Слёзкина — одна из самых оригинальных и интеллектуально провоцирующих книг о еврейской культуре за многие годы.
Publishers Weekly
Найти бесстрашную, оригинальную, крупномасштабную историческую работу в наш век узкой специализации - не просто замечательное событие. Это почти сенсация. Именно такова книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина...
Los Angeles Times
Важная, провоцирующая и блестящая книга... Она поражает невероятной эрудицией, литературным изяществом и, самое главное, большими идеями.
The Jewish Journal (Los Angeles)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Превратиться в современного националиста — и, таким образом, в гражданина мира — можно было только через чтение. Речь была ключом к чтению, чтение — ключом ко всему остальному. Когда Ф.А. Морейнис-Муратова, будущая террористка, выросшая в очень богатой традиционной семье, прочитала свою первую русскую книгу, она «испытала то чувство, которое должен был бы пережить человек, живший в подземелье и вдруг увидевший сноп яркого света». Все ранние советские мемуары (Морейнис-Муратова написала свои в 1926 году) движутся от тьмы к свету, и многие из них описывают прозрение посредством чтения. Еврейские воспоминания (советские и несоветские, русские и нерусские) замечательны особым вниманием к языку, к овладению новыми словами, к интерпретации текста как проявлению «стремления к свободе». Еврейская традиция эмансипации через чтение распространилась на эмансипацию от еврейской традиции.
В рассказе Бабеля «Детство. У бабушки» маленький рассказчик делает уроки.
Бабушка не прерывала меня, боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу — они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык.
Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой. Но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка, она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел «богатырь» — так называла она богатого человека».
Мальчик читает «Первую любовь» Тургенева. А поскольку «Первая любовь» Тургенева была первой любовью мальчика, «Первая любовь» Бабеля стала версией «Первой любви» Тургенева. Женщину, которую он любил, звали Галина Аполлоновна, и жила она с мужем-офицером, только что возвратившимся с Русско-японской войны.
Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.
Однако прежде, чем войти в «удивительную постыдную жизнь всех людей на земле», он должен был преодолеть свое безъязычие: неудержимую икоту, которая появилась в тот день, когда его деда убили, отца унизили, а голубей разбили у него на виске, — в тот день, когда он почувствовал такую «горькую, горячую, безнадежную» любовь к Галине Аполлоновне.
Эта первая победа — над «косноязычием и безъязычием», «Первой любовью» Тургенева и «русскими мальчиками с толстыми щеками» — чаще всего приходила во время гимназического экзамена. В ходе своего рода экстатической русской бар-мицвы еврейские отроки отмечали свою инициацию в удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, декламируя избранные места из священных текстов. Бабелевского рассказчика экзаменовали учителя Караваев и Пятницкий. Они спросили его о Петре Великом.
О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновенья, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.
— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши,в них дьявол сидит.
По случайному, надо полагать, совпадению, Самуилу Маршаку достался тот же вопрос. И ответил он теми же строками.
Я набрал полную грудь воздуха и начал не слишком громко, приберегая дыхание для самого разгара боя. Мне казалось, будто я в первый раз слышу свой собственный голос.
Стихи эти я не раз читал и перечитывал дома — и по книге, и наизусть, — хотя никто никогда не задавал их мне на урок. Но здесь, в этом большом зале, они зазвучали как-то особенно четко и празднично.
Я смотрел на людей, сидевших за столом, и мне казалось, что они так же, как и я, видят перед собой поле битвы, застланное дымом, беглый огонь выстрелов, Петра на боевом коне.
Никто не прерывал, никто не останавливал меня. Торжествуя, прочел я победные строчки:
Тут я остановился. С могучей помощью Пушкина я победил своих равнодушных экзаменаторов.
Допущенные к жизни всех людей на земле, они открыли весь мир. А мир, как провозглашал халат Галины Аполлоновны, состоял из драконов, птиц, дуплистых деревьев и бесчисленного множества других вещей, которые аполлонийцы именуют «природой». «Чего тебе не хватает?» — спросил медноплечий, бронзовоногий Ефим Никитич Смолич робкого мальчика, который писал трагедии играл на скрипке, но не умел плавать.
— Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.
Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.
— Это что за дерево? Я не знал.
— Что растет на этом кусте?
Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса. — Какая это птица поет?
Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.
Бабель был городским мальчиком. Автобиографический рассказчик Абрахама Кахана, родившийся в маленьком литовском местечке, не знал названий ромашек и одуванчиков.
Я знал три цветка, но не по названиям. Был один круглый, желтый, похожий на щетку, обращавшийся в шарик пуха, который можно было сдуть. Стебель его был горький на вкус. У другого были белые лепестки вокруг желтой пуговичной сердцевинки. А еще один походил на темно-красный набалдашник. Когда я подрос, я узнал их русские названия, а в Америке и английские. Но в те годы мы понятия не имели, как они называются на идише. Мы всех их называли «цацки».
Тут Загурский ничем помочь не мог. Тут требовался Ефим Никитич Смолич, который обладал «чувством природы» и не мог смотреть, как плещущихся в воде мальчишек утягивает на морское дно «водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял».
В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята... Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями.