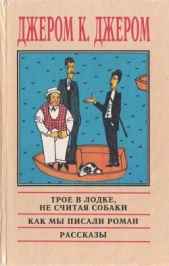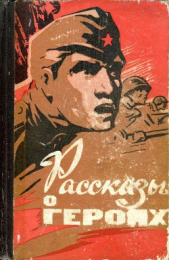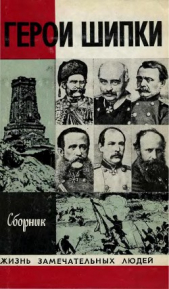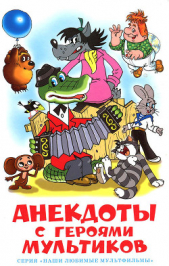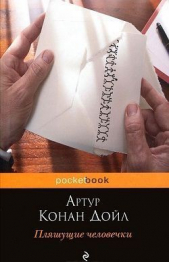Веселые человечки: культурные герои советского детства

Веселые человечки: культурные герои советского детства читать книгу онлайн
Сборник статей о персонажах детских книг, кино-, теле- и мультфильмов.
Карлсон и Винни-Пух, Буратино и Электроник, Айболит и Кот Леопольд, Чебурашка и Хрюша — все эти персонажи составляют «пантеон» советского детства, вплоть до настоящего времени никогда не изучавшийся в качестве единого социокультурного явления. Этот сборник статей, написанных специалистами по разным дисциплинам (историками литературы, антропологами, фольклористами, киноведами…), представляет первый опыт такого исследования. Персонажи, которым посвящена эта книга, давно уже вышли за пределы книг, фильмов или телепередач, где появились впервые, и «собрали» вокруг себя множество новых смыслов, став своего рода «иероглифами» культурного сознания современной России. Осмысление истории и сегодняшнего восприятия этих «иероглифов» позволяет увидеть с неожиданных, ранее неизвестных сторон эстетические пристрастия советского и постсоветского общества, дает возможность более глубоко, чем прежде, — «на молекулярном уровне» — описать социально-антропологические и психологические сдвиги, происходившие в истории России в ХХ — ХХI веках.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дни, проводимые в конторе, — пытка. В моей и без того тусклой жизни наказание непонятно за что <…>
Теперь ясно: от чего-то могу превратиться в труху, в гниль в любую минуту. Значит, на самом деле, сделан-то я весь из одного дерева, а для других — так, человек, как ни в чем не бывало. <…>.
Голова болит уже третий день, иногда нестерпимо. Обхватит обруч, словно серпом полоснут. Мамочке все хуже. Врач ничего не находит, водил ее в поликлинику, делали ей разные обследования. Ничего.
У меня на головке члена возникли папилломы в виде деревьев крохотных. Не знаю, что это за знак такой, может быть, меня уже в Лес призывают, и теперь я весь прорасти должен?
В то же время сознание собственной «деревянности» становится и спасением для Николая Ивановича. Во всяком случае, образы, связанные с деревом, приобретают для героя Макаревича трансцендентальное значение. Сначала он преобразует в тотем набалдашник трости, оставшейся от его дяди Жоры, арестованного в 1937-м, Этим тотемом ожидаемо становится Буратино:
Яйцо поубавилось в объеме, и посредине пришлось вырезать обгорелую часть, так что оно стало напоминать головку члена. Что же касается чертика, то он пострадал значительно. Пришлось порядком повозиться, когда я добрался до неповрежденного слоя дерева, то его очертания фактически исчезли, мой перочинный ножик все время выстругивал какого-то долгоносика, в конце концов, на месте лукавого чертика у меня получился веселенький Буратино.
Затем Николай Иванович создает религию, обращенную на деревья, изобретает ритуалы и даже машины, соединяющие его с деревьями:
Две иконы уже стоят у меня. Внешне они почти не отличаются от защитной обшивки кабинета. И если кто чужой их увидит, он никогда не поймет, что это иконы. Вечером я каждой молюсь по 15 минут… Когда молюсь, то весь преображаюсь. Переходя от одной иконы к другой, как-то возвышаюсь, на кленовой доске голова освобождается от всего лишнего, а на осиновой эрекция полная, орган — деревянный, в мыслях я весь в шумящей зеленой кроне, высоко над землей, среди брызг солнца. Из своего маленького кабинета попадаю в необъятный световой простор, это и есть достижение высшего блаженства.
В 1954 году Николай Иванович догадывается, что Буратино — это он сам и есть: «И я понял наконец, что Буратино это и есть я сам. Ведь что я состою из одного дерева, мне стало ясно давно».
Прорастание дерева сквозь человека становится мощной метафорой ухода из исторического бытия. Этот эффект достигается посредством концептуалистской ритуализации повседневной мизантропии. Но медиация между человеческим и древесным, между подвижным и неподвижным недаром разнесена в тексте Макаревича с 1947-го до 1968 года: точная хронология метаморфоз Николая Ивановича придает проекту Макаревича значение той аллегории умирания истории, превращающейся в природный, циклический процесс. Не случайно Николай Иванович, казалось бы, окончательно ставший Буратино (а это практически тождественно бессмертию), умирает на пике «перестройки», когда казалось, что история вернулась в Россию.
Любопытно, что именно деревянность Буратино подчеркивается и в других обращениях к этому архетипу в современной культуре, как, например, в цикле карикатур лауреата «Золотого Остапа» Максима Смагина «Буратино навсегда / Pinocchio forever» (2002) или в «Кыси» Татьяны Толстой, где деревянная скульптура «Пушкина» именуется «буратиной». Вероятно, этот акцент связан не только с темой выхода из истории, но и с осмысленным обращением к Буратино как к медиатипу советской и постсоветской культурами. Деревянность Буратино становится универсальной метафорой homo soveticus, чувствуя свою неуместность в новых культурных обстоятельствах и в тоже время не способного преодолеть свою природу.
Впрочем, в стихотворении Сергея Круглова это переносится на поколение постсоветских детей — «Поколение Некст» (так называется стихотворение), в котором Поколение оборачивается обрубком слова «некстати»:
Здесь Буратино становится еще более трагическим персонажем, чем у Макаревича, хотя медиация, осуществляемая в этом тексте, кажется контрастно противоположной той, что изображена в «Homo Lignum». Дети-буратины из стихотворения Круглова превращают неживое в живое ценой отцеубийства («Тысячи деревянных детей / Погребают сердца отцов») и самопожертвования («Деревянные вены вздалбливают свои / Отцовским долотом»). Итог, впрочем, тот же, что и у Макаревича, — здравствуй, дерево! («Алым и золотым / Дерево в утре цветет»). То, что у Макаревича выглядело как мрачная картина деволюции, у Круглова становится возвышенным «возвращением жизни», хотя, в сущности, речь идет об одном и том же процессе: бегстве из истории в «природу». И отчуждение героя Макаревича от людей лишь экзальтированно возвышается Кругловым в кровавых ритуалах отце- и самоубийства его буратин.
Почему же постмодернистский образ Буратино окрашивается в трагические тона? Может быть, потому, что сам процесс медиации между полярными оппозициями в постсоветский период обесценивается, превращаясь в заданное и застывшее в своей заданности маятникоподобное движение между слишком хорошо известными, в равной мере скомпрометированными, состояниями? Ведь именно это сознание зафиксировано в таких романах, как «ЖД» Д. Быкова и «День опричника» В. Сорокина. Лев Гудков определяет его как превращение постсоветской переходности в социокультурный стазис [248].
Но означает ли сказанное, что потенциал образа Буратино исчерпан? Думаю, что нет. Ведь приведенные примеры свидетельствуют о том, что Буратино продолжает свою «подрывную», трикстерскую деятельность. Только на фоне постмодернистской культуры, отвергающей иерархичность и канонизировавшей игру между полюсами оппозиций, Буратино выявляет драматичное затвердевание этой игры — тем самым проблематизируя постмодернистские стратегии, обнаруживая трагедийную подоплеку бесконечной деконструкции. Но не дай бог, парадигма сменится, и играющие оппозиции превратятся в незыблемые иерархии, и тогда Буратино снова займется тем, что он умеет делать лучше всего, — безобразничать, нарушать все правила и получать удовольствие от собственных хулиганств. Буратино ведь не дальновиден, он всегда зависит от самого близкого контекста. Такова уж его природа: у него, как было сказано, «коротенькие мысли».