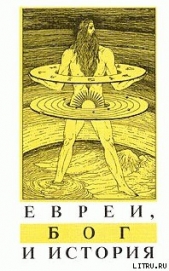Евреи и Европа
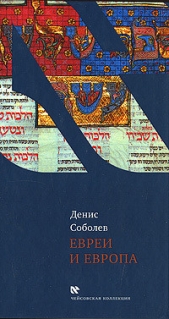
Евреи и Европа читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вторым следствием радикального индивидуализма и осознанного отчуждения, доминирующих в еврейской мысли, является всепроникающий скепсис, и в первую очередь скепсис политический. За объяснением этого факта не нужно далеко ходить. Осознание собственной непричастности, отчуждения от коллективных идеалов и механизмов власти позволяет критически взглянуть на последние. Еврейская традиция — и здесь можно вспомнить не только Гейне и Галича, упомянутых выше, но Спинозу и Кафку, Маркса и Адорно, Гроссмана и Беллоу, Целана и Бродского — это традиция противостояния власти. Но если традиционная европейская парадигма противостояния власти обычно предполагала политическое противостояние при принадлежности к общей языковой и ценностной вселенной, писатели-евреи обнаруживают крайне отчетливую тенденцию к выходу за пределы культурных областей, облюбованных доминирующей цивилизацией и ее дискурсами: стремясь, как кажется, разорвать связи с нею на уровне гораздо более глубоком, чем собственно политика. Достаточно существенно, что подобная тенденция обнаруживается не только в отношении к диктатурам, но и по отношению к «новому тоталитаризму» постиндустриального западного общества и его «средствам массовой информации», столь рельефно проанализированному Франкфуртской школой и ее преемниками.
И потому, оказавшись вне культурной и ценностной пирамиды, поддерживающей власть как систему, еврейские писатели и мыслители становятся способными на анализ функционирования власти, принципиально отличный от традиционного. В отличие от последнего, в большинстве случаев обращенного на самые заметные материальные проявления власти и несвободы, еврейская традиция построена в первую очередь на противостоянии мифам и языкам власти. Мандельштам и Бродский, Гроссман и Галич являются прекрасными примерами такого противостояния. Более того, не только мифология власти, но и конкретные национальные культуры часто рассматриваются как подобные языки — как скрытое орудие господства и подавления. Такой подход особенно характерен для немецкоязычной ветви еврейской мысли: для антиромантических насмешек Гейне, марксовского сведения культуры к экономическому противостоянию, беньяминовского стремления сорвать ауру священности, существующую вокруг искусства, попыток Адорно выявить метафизический «субъект господства» за кулисами европейской цивилизации.
Большинство европейских философов направляли свою мысль на универсальные, внеисторические аспекты бытия человека. Еврейско-европейской мысли, напротив, свойственно внимание к исторической обусловленности человеческого существования. В этой традиции философские акценты перенесены с бытия человека в мире на бытие в истории. Более того, историчность этого существования понимается как одна из сущностей человеческого существования в его конкретности. Этот подход особенно бросается в глаза по контрасту как с традиционными христианскими представлениями, так и с верой просветителей в универсальную, неизменную человеческую природу, на которую лишь «надеваются» исторически обусловленные — но всегда поверхностные — «костюмы», как это происходит в голливудских фильмах. Наконец, в этой традиции либерально-гуманистическому представлению о свободной воле человека противопоставлено понимание того, что человек в огромной степени является пассивным продуктом общества и истории — несвободным, если не слепым, исполнителем ее воли. Это внимание к исторической обусловленности (или, как принято говорить в культурологии, историчности) человеческого бытия характерно для столь разных философских школ, как марксизм (и неомарксизм), с одной стороны, и неокантианская школа Эрнста Кассирера — с другой.
Впрочем, внимание к исторической обусловленности человеческого существования не является универсальной характеристикой еврейской мысли; скорее, это одно из проявлений общего внимания к истории, которое, вне всякого сомнения, характеризует еврейско-европейскую традицию. История перестает быть задником, на фоне которого разыгрываются реальные события, — она становится активным действующим лицом. Но следует отметить, что вышедшая на авансцену история оказывается далека от того, что обычно принято о ней думать. Это не героическая повесть о дерзаниях и свершениях, не миф, цель которого объединить народ, и уж тем более не гегельянское неизбежное движение к совершенству — с Мировым духом на козлах истории. В большинстве случаев история в еврейско-европейской интеллектуальной традиции — это история с маленькой буквы, история крови, страданий и непрекращающегося насилия. Это история варварства, как описал ее Вальтер Беньямин в своих знаменитых «Тезисах об истории». Ученики Беньямина, и в первую очередь современные неоисторицисты, добавят, что история — это не только история самого насилия, но еще и история различных механизмов подавления и власти; это история языков власти и языков насилия. И именно эта история, история как многословная кровавая реальность, выходит на передний план у Галича и Целана, Бродского и Мандельштама, Бабеля и Гроссмана, Деблина и Фейхтвангера, Германа Броха и Нелли Закс.
Сочетание острого чувства одиночества, осознания собственной непринадлежности, исчезновения героического мифа национальной истории и противостояния языковой монолитности власти часто приводит к желанию вырваться за пределы нормативных культурных регионов, за пределы границ национальных культур. Это стремление может выражаться в попытках культурного посредничества между еврейским и нееврейским миром, как, например, это происходило у Моше Мендельсона и Исаака Бабеля, Германа Броха и Германа Когена. Но то же самое стремление к разрушению культурных границ может проявляться и в попытках объяснить друг другу различные европейские культуры. И здесь наиболее характерные примеры описываемого явления — культурное посредничество Гейне между Германией и Францией или посредничество Бродского между русской и английской культурами. Наконец, то же самое явление может проявляться в стремлении к недостижимому культурному синтезу, к мандельштамовской тоске по воображаемой «мировой культуре», к созданию чисто еврейских фантомов вселенского культурного единства.
Как известно, философский поворот, совершенный Гуссерлем, связан с перенесением философских акцентов на понятие смысла в его данности сознанию. Впрочем, это только один из многих примеров, говорящих о центральности проблематики смысла в еврейско-европейской интеллектуальной традиции. Более того, большинство еврейских мыслителей ставят этот вопрос в гораздо более радикальной форме, чем Гуссерль, которого интересуют структуры человеческого (и именно человеческого) сознания. В большинстве же случаев смысл предстает в еврейской мысли как один из главных, «последних» вопросов. Речь идет в первую очередь не о значении того или иного поступка для отдельного человека в очевидной ограниченности его существования и даже не о его историческом или социальном резонансе, а о вне-историческом, метафизическом смысле — смысле с большой буквы. Речь идет о том Законе в «Процессе» Кафки, по которому должен быть судим человек и его поступки. Однако, спрашивая об этом Законе, о смысле человеческого существования, еврейская мысль не перестает подчеркивать невозможность сколь бы то ни было удовлетворительного ответа. В этом отрицании возможности смысла нет ничего удивительного. Если традиционно европейский философский подход построен на представлении о том, что внимательное изучение мира может привести к пониманию смысла человеческого существования и поступков (на представлении о том, что, как принято говорить, смысл, в той или иной степени, «имманентен» материальному миру), еврейская традиция связана с пониманием неприсутствия скрытого смысла в вещах, с признанием его «неимманентности». И тем не менее, как кафкианский Закон, таинственный, недостижимый и все же постоянно присутствующий, — смысл присутствует как вопрос: вопреки своей недостижимости. Именно о нем, раз за разом, с отчаянием и надеждой, спрашивает Кафка. Именно в свете подобной идеи «бесконечности», полностью трансцендентной существующему, пытается увидеть межличностные отношения Левинас. Именно к попыткам найти этот смысл раз за разом — в своем обсессивном сизифовом героизме — возвращается разочарованная мысль Деррида. Иными словами, еврейская традиция выбрала трагический серединный путь: между спокойной уверенностью в возможности ответа на вопрос о смысле человеческого бытия, присущей авторам классического романа, и авангардным, карнавальным пренебрежением к самому вопросу.