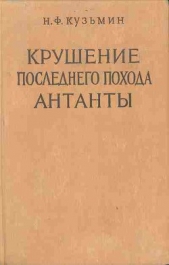«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов

«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов читать книгу онлайн
В книге В. К. Кантора, писателя, философа, историка русской мысли, профессора НИУ — ВШЭ, исследуются проблемы, поднимавшиеся в русской мысли в середине XIX века, когда в сущности шло опробование и анализ собственного культурного материала (история и литература), который и послужил фундаментом русского философствования. Рассмотренная в деятельности своих лучших представителей на протяжении почти столетия (1860–1930–е годы), русская философия изображена в работе как явление высшего порядка, относящаяся к вершинным достижениям человеческого духа.
Автор показывает, как даже в изгнании русские мыслители сохранили свое интеллектуальное и человеческое достоинство в противостоянии всем видам принуждения, сберегли смысл своих интеллектуальных открытий.
Книга Владимира Кантора является едва ли не первой попыткой отрефлектировать, как происходило становление философского самосознания в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отметим важнейшее отличие Леонтьева от славянофилов: как Тютчев, как Соловьев, непризнанный мыслитель был государственник.
2. Россия и главная идея Леонтьева
Чем же сильно государство? Конечно, материальными силами, войском прежде всего. Прошедший Крымскую компанию как врач, Леонтьев весьма ценил воинственность, даже графа Вронского из «Анны Карениной» оправдывал, ставя выше графа Толстого, его создателя, потому что Вронский настоящий военный. Но сильнее всего держит единство государства идея. Россия, по Леонтьеву, сильна византийской идеей. Без нее она идет к разложению: «Я, признаюсь, за последние годы совершенно разочаровался в моей отчизне и вижу, напротив, какую‑то дряхлость ума и сердца… не столько в отдельных лицах, сколько в том, что зовут Россия. Чтобы она немного помолодела… боюсь сказать… что нужно… быть может, целый период внешних войн и кровопролитий вроде 30–летней войны или, по крайней мере, эпохи Наполеона 1–го» [187].
Он многое предчувствовал, не предсказывал, а именно предчувствовал. Об этом слова знаменитого монархиста Льва Тихомирова: «Как в Византии думали только о том, чтобы по возможности “сохранить” остатки Римского достояния, а, если возможно, то прибавить к ним что‑нибудь и из утраченного, так, мне кажется, и для России Леонтьев видел возможность лишь строжайше консервативной политики. Он выражал большие сомнения в молодости России, сильно полагал, что она уже дошла до предельного развития, начала склоняться к дряхлости, когда приходится думать не о развитии сил, а только о том, чтобы поменьше их тратить, помедленнее идти к неизбежному концу. С такими предчувствиями, конечно, не может быть охоты к разработке “конституции” хиреющей страны и монархии, и если бы он дожил до наших дней (1905 г.), то, конечно, признал бы в России все признаки разложения, а не развития. Может быть, он был бы и прав» [188]. Но, конечно, такая позиция не дело реального политика, который должен верить в свою страну и в ее политическую будущность.
Леонтьев же очень трезво и жестко видел конечность всех исторических событий, явлений, конструкций. Поразительно, что мыслитель, которого без конца именуют то фанатиком, то изувером православия, вовсе не сомневался в том, что и это прейдет: «Хотя Православие для меня самого есть Вечная Истина, но все‑таки в земном смысле оно и в России может иссякнуть. — Истинная Церковь будет и там, где останется три человека. — Церковь Вечна, но Россия не вечна и, лишившись Православия, она погибнет» [189].
Все это простой вывод его главной идеи. Леонтьев не верил в либерально — демократический прогресс. Говорил, что он невозможен и приведет к катастрофе. Писал о холере всеобщего равенства и демократии. Причем это не было простой публицистикой, все это базировалось на определенном философском понимании им исторического процесса. И его историософская идея была весьма продуктивна: «Что бы развитое мы ни взяли, болезни ли (органический сложный и единый процесс) или живое, цветущее тело (сложный и единый организм), мы увидим одно, что разложение и смерти второго (организма) и уничтожению первой (процесса) предшествуют явления: упрощение составных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и вместе с тем смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходит в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее» [190]. И вывод: «Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения» [191].
Вторичное смесительное упрощение, как мы видим столетие спустя, это наступление массового общества, в котором мы живем и которому по мере сил то противостоим, то приспосабливаемся.
В прошлом России он видит идею великой византийской империи и рожденную в ее недрах православную идею, которые и структурировали косную материю. Без Византии, помимо Византии, точнее сказать, без идеи византинизма, Россия не состоялась бы, без нее она рассыплется. Ибо, по Леонтьеву, сама Россия не родила ни одной культуро — созидательной идеи: «Разве решено, что именно предстоит России в будущем? Разве есть положительные доказательства, что мы молоды?
Иные находят, что наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может служить доказательством нашей незрелости или молодости.
Но так ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа еще не ручательство за будущие богатые плоды [192].
Надо сказать, именно Европу он видел образцом, в сущности соглашаясь с идеей единой Европы, которая близка была и Соловьеву: «Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного.
Но вопрос вот в чем: если в эпоху современного, позднего плодоношения своего европейские Государства сольются действительно в какую‑нибудь федеративную, грубо рабочую Республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности?»
И он отвечает на это с верой в европейское будущее: «И, наконец, как бы то ни было, на розовой ли воде ученых съездов или на крови выросла бы эта новая республика, во всяком случае Франция, Германия, Италия, Испания и т. д. падут: они станут областями нового государства, как для Италии стали областями прежний Пиемонт, Тоскана, Рим, Неаполь, как для все — Германии стали областями теперь Гессен, Ганновер и самая Пруссия; они станут для все- Европы тем, что для Франции стали давно Бургундия, Бретань!..» [193]
Так оно и происходит на наших глазах.
Не меньше, чем за Россию, он боялся за Европу. Он боялся мещанства, которое помешает суровой и великой реальности Европы и России. Его поэтому пугало надвигавшееся на Россию, которая может Европу спасти, европейское мещанское начало. Поразительным образом он боялся, что радикализм русской интеллигенции приведет ее к мещанству. Ну, допустим, интеллигенция подвержена разным опасностям, ну а народ, зато народ! А что такое народ для Леонтьева?
3. Народ и проблема национального
Народ он принимал, как и Достоевский, не за то, что это русский народ, а как носителя идеи (так ему казалось) православия и византизма. Он писал: «В чем же смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его телесный труд? Нет; всякий знает, что не об этом речь: это само собою разумеется и это умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев наших. Подражать его нравственным качествам? Есть, конечно, очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще личные, в тесном смысле, качества наших простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству, расположению столь многих из них к постоянному лукавству и даже воровству… Конечно, не с этой стороны советуют нам перед ним “смиряться”. Надо учиться у него “смиряться” умственно, философски смиряться, понять, что в его мировоззрении больше истины, чем в нашем…» [194]
Для него православие выше национальности. И к русским в этом смысле он относился более чем скептически: «Православные греки, православные турки, православные черкесы, православные немцы, даже искренне православные евреи — все будет лучше этой скверной славянской отрицательной крови, умеренной и средней во всем, кроме пьянства и малодушия! — писал он в 1890 г. И. Фуделю. — Люблю Россию как государство, как сугубое православие, как природу даже и как красную рубашку. Но за последние годы как племя решительно начинаю своих ненавидеть» [195]. У Леонтьева очевидное мировоззрение державника. Он и не скрывал этого: «Для существования славян необходима мощь России.