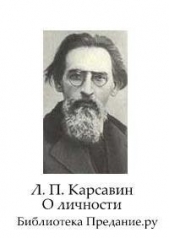В поисках личности: опыт русской классики

В поисках личности: опыт русской классики читать книгу онлайн
Здесь исследуется одна из коренных проблем отечественной литературы и философии 19 века «о выживании свободной личности» - о выживании в условиях самодержавного произвола, общественной дряблости, правового нигилизма и народного бескультурья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На Русь книга, книжность приходят с крещением. Но приходят особым образом как насаждение совершенно нового, не существовавшего ранее культурного явления. Усвоение Россией книжности было фактом «трансплантации византийской культуры на славянскую почву. Памятники пересаживаются, — пишет академик Лихачёв, — трансплантируются на новую почву и здесь продолжают самостоятельную жизнь в новых условиях и иногда в новых формах… Это явление чрезвычайно важно для образования и формирования новых культур…» [20]. Книга выполняет функции воспитателя, способствует «усвоению более передовых форм гражданского общежития» (Н. К. Гудзий). Однако воспитание только через книгу, через трансплантированные формы культуры достаточно затруднительно, ибо перед глазами идущих к цивилизации людей нет форм той «благоустроенной жизни», которая, по мысли Чаадаева, вносит «правильность в душевную жизнь человека» [21], является необходимым условием, дающим возможность заниматься духовными проблемами, или, говоря, философским языком, даёт возможность для высокого досуга. Свидетельство о первоначальном неприятии народом книжной культуры, книжного воспитания оставила нам «Повесть временных лет». «Посылал он (Владимир. — В. К.) собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились ещё они в вере и плакали о них, как о мёртвых» [22]. Интересно, что попытка просветить книгой, переработать, обуздать не введённую в нравственные рамки стихийность, поставить нравственные нормы и запреты, воспринималась как наказание как насилие над «живой жизнью», как смерть.
Это возвращает нас к спорам XIX в., когда, упрекая западников и революционеров-демократов в том, что они пытаются надвязать народу «книжность», «рассудочность», подавить западной книгой живое — христианское — миросозерцание народа, славянофилы забывали, что для Руси христианство тоже было явлением «книжной культуры», противоречащим стихийным формам так называемой «живой жизни», и пришло из Византии, отколовшейся части Римского мира, Запада, а отнюдь не Востока, не Азии. Но нельзя забывать главного. «Иностранные влияния, — как справедливо замечает Д. С. Лихачёв, — оказываются действенными только в той мере, в какой они отвечают внутренним потребностям страны» [23], потребностям ускорения её социального, экономического и культурного прогресса, без этого усвоить уроки иной цивилизации страна просто не сможет. Возникли новые формы быта, появились невиданные ранее явления культуры: начали строиться новые типы зданий (храмы), появились не только «книжность», но и иконопись, фресковая живопись, возникла потребность в новых предметах прикладного искусства — словом, произошло усложнение жизни, а именно в усложнении видели русские мыслители прошлого века основу прогресса. Для Чернышевского прогресс — в переходе от варварства, т. е. животного состояния человека (варвар, писал он, это «человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дикому зверю едва ли не ближе, чем к развитому человеку») [24] к цивилизации, которая строится на образовании: «Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и разлитии знаний» {255}. Не случайно для первых русских книжников именно книга означала «живую жизнь», приобщение к роднику жизни, жизни движущейся и развивающейся.
Надо сказать, Киевская Русь очень быстро выдвинулась в число образованнейших и просвещённейших государств раннего средневековья. Возникли прямые контакты и со странами Западной Европы, где тем временем кончалась эпоха варварства, наступал феодализм. Но хотя это и был пока лишь «грабёж, приведённый в систему, междоусобица, подведённая под правила» {256}, тем не менее, это был явный «прогресс» и Запад охотно идёт на контакт с Русью, напрямую связанной с высокоцивилизованной и неприступной Византией. Историки, в том числе западные, не раз отмечали, что вскоре после основания русской империи, династия Рюриковичей перенесла свою столицу из Новгорода в Киев для того, чтобы быть ближе к Византии. В одиннадцатом веке Киев подражал во всём Константинополю, и его называли вторым Константинополем. Дочь Ярослава Мудрого выходит замуж за французского короля, в эпоху Мономахов и Мстиславов на Руси имеются училища греческого и латинского языков, а Киевский митрополит Иларион (тот же XI в.), произнося своё прославленное «Слово о законе и благодати», уже смело заявляет: «Не невеждам ведь пишем, а обильно насытившимся книжной сладостью» {257}.
В Киевской Руси враждующие княжества — «полугосударства», как правило, группировались вокруг центрального города и соединены были общим языком и общей культурой (Древнюю Русь скандинавы называли Гордарикой, «страной городов»), существовала подвижность населения (не только князь с дружиной передвигался из города в город, но и каждый дружинник обладал «правом отъезда»), шло явное, неоднократно отмеченное историками разрушение родоплеменного уклада жизни, наблюдалось охотное включение иноземцев в структуру складывающейся национальности, ассимиляция их особенностей. Таковы греки (в основном книжники и монахи), тюркоязычные степняки, с которыми срастались и роднились, варяги, входившие в княжескую дружину, литва, сурожские гости, прочно обосновались в древнем Новгороде ганзейские купцы. «Путь из варяг в греки, — замечает С. М. Соловьёв, — западная полоса России от Балтийского до Чёрного моря, это главный торговый путь и главная историческая сцена в нашей древней истории; на ней — богатые торговые города и сильные городовые общины, обнаруживающие свою самостоятельность» [25]. Не забудем также, что в этом сложном единстве городов Древней Руси существовали даже разные формы правления вплоть до республиканского в Новгороде. Активная торговля, обмен материальными ценностями, людьми и идеями — всё это создавало несомненные предпосылки для духовного расцвета. «В XII — XIII вв. грамотность и книжность, — отмечал академик М. Н. Тихомиров, — выходят уже за пределы княжеских и боярских дворов, за пределы епископских резиденций и монастырей, они в какой-то мере становятся достоянием относительно широких кругов населения… Книжное учение распространялось в некоторых кругах городского населения, а также среди княжеских и боярских ремесленников» {258}.
В этой ситуации книжная культура начинала восприниматься охотнее, в ней почувствовали реальную нужду, и книжник стал значительным лицом в культуре. «Когда среди нас, — писал Ключевский, — стало водворяться искусство чтения и письма, с ним вместе появились и книги, и вместе с книгами пришла к нам книжная мудрость… Тогда русский ум припал жадно к книгам, к этим «рекам, напояющим Вселенную, этим исходищам мудрости». С тех пор разумным и понимающим человеком стал у нас считаться человек «книжный», т. е. обладающий научно-литературным образованием, и самою глубокою чертою в характере этого книжника стало смиренномудрие личное и национальное. Так народился первый достоверно известный по письменным памятникам тип русского интеллигента» {259}.
К несчастью, это развитие, эта ещё только складывающаяся, незатвердевшая структура цивилизации была смыта и почти полностью уничтожена татарским нашествием. Татаро-монгольское нашествие на Русь Чернышевский сравнивал с нашествием варваров на Древний Рим, указывая на общность причин. «Погибель Римской империи — такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи… Подобные случаи погибели предмета, погибели дела от внешних разрушительных сил… встречаются… бесчисленное число раз в истории; только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при погибели всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благотворности этих катастроф. Слепая игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не вышедших из животного состояния» {260}.