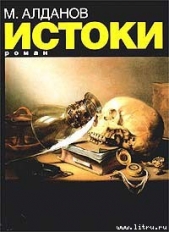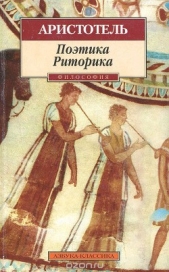Риторика и истоки европейской литературной традиции

Риторика и истоки европейской литературной традиции читать книгу онлайн
Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как “жанр” и “авторство”. В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии. Особое внимание уделено роли аристотелевской парадигмы в истории античной, средневековой и новоевропейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наверное, каждый любитель античной литературы возмутится, если сказать ему, что норма этой литературы — холодные абстракции антиохийского ритора; и утверждение это — впрямь неправда. Однако то, что было нормой античной литературы, все же «единоприродно» подобным абстракциям, принадлежит в принципе тому же порядку вещей. (Что касается роли эскизов и заготовок как свидетельства о творческой лаборатории мастера, позволим себе аналогию. В живописи Рафаэля, отмеченной преобладанием христианских сакральных сюжетов, нагота встречается не часто, но из рисунков Рафаэля мы узнаем, что каждая фигура, появляющаяся на картине или фреске одетой, первоначально была прорисована нагой, увидена нагой, и это, конечно, детерминирует весь тип рафаэлевского творчества, отделяя его как продукт Высокого Ренессанса от тех типов живописи — средневековой, восточной и т. д., которые никоим образом этого не требовали или даже не допускали. Не так ли экфрасис Либания дает в «обнаженном» виде абстракцию, которая затем могла быть как угодно «одета» воображением античного литератора, продолжая жить под этой «одеждой» своей жизнью, сохраняя свой существенный примат по отношению к конкретизации как вторичному? Это предполагает путь от общего к частному, от универсалии к вещи и лицу, от вневременной мыслимос-ти казуса к реализации этого казуса во времени, т. е. путь, аналогичный пути дедукции, пути силлогизма, этому «царскому пути» рационализма от Аристотеля до Фрэнсиса Бэкона.)
Если тот же Либаний когда-нибудь был совершенно искренним и говорил от полноты сердца, это имело место в его «Монодии на смерть Юлиана» [16], самом раннем отклике на глубоко потрясшее его событие [17]. Современный исследователь называет эту речь «в высшей степени личной и глубоко прочувствованной данью покойному» [18], и таково нормальное впечатление читателя. Казалось бы, здесь-το можно ожидать отхода от поэтики пресловутого силлогизма: «Кай — человек, люди смертны, потому...» Вот, однако, Либаний, столь искренно скорбя о безвременной смерти своего царственного друга (он обращается к нему именно с дружеской интимностью — ώ φίλτατε), начинает размышлять, почему именно смерть эта особенно, исключительно прискорбна. Указываемый логикой путь для оценки исключительности меры какого-либо качества в каком-либо предмете есть возможно более систематическое сопоставление с мерой этого же качества в других заведомо им наделенных предметах (чем предполагается, что качество «прискорбности» понято, во-первых, с непривычной для нас объективностью и предметностью, во-вторых, чисто квантитативно, т. е. измеримо и соизмеримо [19]). В соответствии с этим Либаний выстраивает ряд [20] из восьми знаменитых казусов насильственной или хотя бы ранней смерти, взятых из мифологической или исторической древности [21], и ставится вопрос: по какому именно признаку гибель Юлиана более прискорбна, чем гибель Агамемнона — Кресфонта — Кодра — Аякса — Ахилла — Кира — Камбиса — Александра? Каждый раз Либаний изыскивает по одному признаку: царства Агамемнона и Кресфонта не простирались «от заката до восхода солнца», как Римская империя, и ареал общественного бедствия в случае Юлиана шире; Кодр погиб, повинуясь оракулу и, значит, компенсируя для терявших его подданных горечь утраты обещанным благом, чего с Юлианом не было; Аякс как «малодушный полководец», Ахилл как любострастник и гневливец, Камбис как безумец, даже Александр как человек, «подававший поводы обвинять его», превзойдены Юлианом в добродетели; наконец, Кир оставил сыновей, между тем как Юлиан умер бездетным. Идет перебор классических парадигм, через сопоставление (σύγκρισις) с которыми конкретный казус гибели Юлиана сам собою разнимается, расслаивается на последовательность пяти отвлеченно увиденных смысловых моментов: «он же, (1) от заката до восхода солнца властвуя, (2) душу же имея исполненную добродетели, притом (3) молодой и (4) еще не отец, (5) от руки какого-то Ахеменида умерщвляется» [22].
Поэтика синкрисиса, игравшая столь важную роль в античной литературе [23] и столь чуждая современному восприятию, имела своей «сверхзадачей», очевидно, именно этот эффект восхождения от конкретного к абстрактному, к универсалиям. Когда мы говорим «синкри-сис», трудно не вспомнить Плутарха, а потому оглянемся на его «Параллельные жизнеописания»: если в пределах каждой биографии герою еще как-то дозволяется быть самим собой, то, как только дело доходит до синкрисиса, оба героя преобразуются в нечто иное — в двуединый инструмент для выяснения некоторой общей ситуации или общего морально-психологического типа [24]. Например, Сертория и Евме-на логика синкрисиса закономерно превращает в пару иллюстраций к моралистическому тезису о возможностях и опасностях, поджидающих деятельного человека на чужбине. Деметрий — это Деметрий, Антоний — это Антоний, но Деметрий плюс Антоний внутри пространства синкрисиса дают в сумме сентенцию: «великие натуры порождают не только добродетели, но и пороки великие». Сентенция эта приложима к неограниченному множеству частных казусов, воспроизводимых в любую эпоху и среди любого народа. Конкретный характер предстает в контексте синкрисиса как комбинация абстрактных свойств, перечисляемых по пунктам. Пелопид и Марцелл «оба были (1) храбры, и (2) неутомимы, и (3) вспыльчивы, и (4) великодушны» [25]. Те же Деметрий и Антоний «в равной мере (1) сластолюбивы, (2) привержены к вину, (3) во всем настоящие солдаты, (4) щедры, (5) расточительны, (6) наглы» [26]. Примеры могут быть умножены до бесконечности. Что это такое? Это рубрикация — коренная рационалистическая установка на исчерпание предмета через вычленение и систематизацию его логических аспектов.
Достаточно усмотреть связь между рубрикацией и синкрисисом, увидеть роль синкрисиса как катализатора рубрикации, чтобы понять: синкрисис никоим образом не курьез и не причуда того или иного автора, не пустая условность [27], да и не просто частный прием, но адекватное выражение некоторого необходимого и универсального для античной литературы подхода к вещам, действовавшего и тогда (может быть, более всего тогда), когда синкрисиса как такового перед нами нет. Скажем, греко-римская биография нормального, неплутарховского типа, начиная с «Эвагора» Исократа и «Агесилая» Ксенофонта вплоть до «Двенадцати цезарей» Светония и дальше, обходилась без синкрисиса, но обходилась именно потому, что вся ее рубрицированная композиция представляла собой как бы синкрисис implicite, рассмотрение темы sub specie синкрисиса [28].
Как разъясняет античная теория [29], составителю биографии надо было прежде всего вычленить рубрику «происхождение» (γένος) и затем разделить ее на подрубрики «народ» (έθνος), «отечество» (πατρίς) «предки» (πρόγονοι) и «родители» (πατέρες), чтобы трактовать каждую подрубрику обособленно; далее, в рубрике «деяния» должны быть выделены подрубрики «душа», «тело» и «судьба» (τύχη); в первой из них в свою очередь различаются отдельные добродетели или пороки, во второй — отдельные телесные качества, в третьей — наличие или отсутствие благоприятных обстоятельств, каковы власть (δυναστεία), богатство и обилие друзей, и т. п. Каждый из этих пунктов несет в себе самом потенцию синкрисиса: «происхождение» для того и разбито на четыре составляющих, чтобы сразу же усмотреть, что такой-то герой превосходит такого-то по признаку «народа» или «отечества», но уступает ему по признаку «предков» или «родителей»; и то же самое можно сказать и о дальнейших рубриках. Если Светоний описывает нрав и поведение своих цезарей по унифицированной схеме, вся предлагаемая им панорама просматривается как синкрисис: любая рубрика любой биографии логикой композиции сопоставлена с соответствующей рубрикой других биографий. Для стиля античной характерологии все это настолько необходимо, что напрашивается вывод: Плутарх снабжал свои биографии особыми синкрисисами не по особой наклонности своей к тому, что составляло суть поэтики синкрисиса, т. е. к рассудочной, абстрагирующей рубрикации, но, напротив, по совершенно необычному у греческого или римского литератора его эпохи недостатку такой склонности — недостатку, побудившему его ограничить господство рубрикации специально для того выделенными эпилогами (и отчасти прологами) каждой четы биографий, вместо того чтобы распространить это господство на все свое биографическое творчество в целом, как поступил (по примеру греческих предшественников) тот же Светоний.