Хватит убивать кошек!

Хватит убивать кошек! читать книгу онлайн
Критика социальных наук — это ответ на современный кризис гуманитарного знания. Социальные науки родились как идеология демократии, поэтому их кризис тесно взаимосвязан с кризисом современного демократического общества. В чем конкретно проявляется кризис социальных наук? Сумеют ли социальные науки найти в себе ресурсы для обновления или им на смену придет новая культурная практика? В книге известного историка Н. Е. Копосова собраны статьи и рецензии, посвященные истории и современному состоянию социальных наук, и прежде всего — историографии. В центре внимания автора — формирование и распад современной системы основных исторических понятий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Неподвластное прошлое», отмеченное ГУЛАГом и Аушвицем, «прошлое, которое не проходит», властно завладело социальной памятью (или, будучи вытесненным, деформировало ее — но это тоже форма владения). Даже многократно описанное, оно не стало более интеллигибельным. Прошлое исчезло — и как предмет рационального дискурса социальных наук, не сумевших выразить его экзистенциальное значение, и как «прекрасная непрерывность» истории европейских наций, из которой выпало не поддающееся объяснению звено [204]. Характерно — в связи с упомянутым эффектом «отложенного разочарования», — что особую остроту проблема «неподвластного прошлого» приобрела в 1980-е гг., когда кризис коммунистического режима перешел из скрытой в открытую фазу. В эти же годы стал очевидным и кризис истории. Вместе с недоступным пониманию прошлым в пучину небытия погрузилось будущее. Временем истории стало бесконечное настоящее, а сама история оказалась конструктом сознания. Единственным способом понимания истории стало изучение ее конструирования и функционирования в настоящем.
Распад времени прогресса был распадом всей системы временных координат идеологии Просвещения, а вместе с ней и сформировавшейся на грани XVIII–XIX вв. системы основных социально-политических понятий, в которых эта идеология нашла выражение [205].
С деформацией линейного времени всеобщей истории связано характерное для сегодняшнего дня возникновение особого, «этнологического» отношения к прошлому [206], которое стало восприниматься как «чужое» и, следовательно, перестало быть началом настоящего. Этнологическое прошлое — это уже не прошлое всеобщей истории, из которого естественно вырастают формы сегодняшней жизни, не целостная система современного мира, взятая на предшествующем этапе развития, система, в каждом элементе которой узнается зародыш соответствующего явления сегодняшнего дня, — это незнакомый мир, фрагменты которого, вырванные из неизвестной нам связей явлений, живут в нашем воображении самостоятельной жизнью в настоящем. Такова, в частности, предпосылка самой, по-видимому, значительной исторической теории конца XX в. — концепции «мест памяти» Пьера Нора, согласно которой центральной категорией нашего восприятия времени стала категория разрыва. Нора связывает это с «ускорением истории» и с исчезновением «естественной» исторической памяти, рождавшей ощущение непрерывности исторического времени. Со своей стороны Г. Спигель и П. Фридман недавно показали этнологическое отношение к прошлому на примере американской медиевистики [207]. «Странное Средневековье» отделено от нас порогом радикальной чуждости, и принципиальная невозможность понять его в категориях современного мышления перечеркивает привычное ощущение культурной преемственности. Но это означает кризис идеи культуры, которая перестает быть связующей нитью истории человечества, и самой идеи человечества, мыслимого лишь в той мере, в какой преемственность сильнее прерывности. «Распад связи времен» лишил культуру целостности, направленности и в конечном итоге смысла.
Прерывность времени означала для истории прежде всего распад идеи исторической каузальности. Между тем именно историческая каузальность обусловливает интеллектуальную возможность истории, делает ее мыслимой и рассказываемой, и, более того, создает саму «материю истории». История как некоторая целостность, как непрерывность существует постольку, поскольку может быть рассмотрена как цепочка причин и следствий. Ведь очевидно, что составляющие ее события являются разрозненными эпизодами. В непрерывное целое их связывает повествование [208], предполагающее непосредственное вытекание последующего из предыдущего, т. е. идею причинности.
Идея причинности была поставлена под сомнение опытом мировых войн и тоталитарных режимов. Между «Афинами Европы» и Аушвицем, равно как и между Просвещением и ГУЛАГом, разум отказывался выстраивать причинно-следственные цепочки [209]. В итоге история-повествование оказалась проблематизированной так же, как и «научная история», пытавшаяся выводить законы общественного развития, но не сумевшая ни выработать проекта будущего, ни хотя бы объяснить перемену мировой экономической конъюнктуры в 1970-е гг. и финансовые потрясения 1990-х.
Как уже отмечалось, проект Просвещения основывался на вере в познаваемость, объяснимость и управляемость мира. Социальные науки (и история как одна из них) глубоко интериоризировали эту веру. Отсюда их стремление приблизиться к модели естественных наук. Не случайно, что расцвет социальных наук пришелся на 1960-е гг., увидевшие апогей идеологии планирования и технократической веры в прогресс [210]. Гуманитарные катастрофы XX в., закат и падение коммунизма и не в последнюю очередь экономические трудности последних десятилетий подорвали веру в возможность управлять историей, открыв ее законы, — не только в карикатурной форме на Востоке, но и в более прагматической форме на Западе. Сегодня редкий историк осмелится утверждать, что история такая же наука, как и естествознание, или попытается объяснить историческое событие, подведя его под закон общественного развития. Историку в лучшем случае удается проследить сцепления «механизмов», причины работы которых ему непонятны, выявить частичные взаимосвязи явлений или сопутствующие явления, и никакая общая теория не подскажет ему, где среди этих явлений причины, а где — следствия [211]. Отсюда популярность в 1980–1990-е гг. заимствованной у биологов идеи саморазвития, которая не предполагает векторности (и тем самым рациональности) развития и позволяет подменить анализ причин описанием процесса. Характерно, что даже в редких сегодня марксистских трудах от марксизма может сохраниться все, что угодно, но не идея причинности [212].
Идея прогресса организовывала события прошлого не только во времени, но и в пространстве. Известно, что вскоре после формирования в конце XVIII в. современных понятий всеобщей истории, культуры и цивилизации два последних слова стали употребляться во множественном числе. Культуры и цивилизации в XIX в. рассматривались прежде всего как варианты единой человеческой культуры и цивилизации. Предполагалось, что неевропейские культуры со временем вольются в единую цивилизацию — естественно, западную. Именно идея единого вектора развития, основанная на идее единой природы человека и универсального разума, позволяла соотнести между собой бесконечно разнообразные локальные истории как части единой истории цивилизации.
Сегодня, и в особенности в самые последние годы, после заката коммунизма и распада биполярного мира, в результате порожденных глобализацией конфликтов разнообразие мира и несоизмеримость культур выступили на первый план. Чуждость хронологически удаленного от нас прошлого находит аналог в чуждости отдаленных в пространстве цивилизаций, которые мы тщетно пытаемся понять в свойственных нам категориях. Кризис проекта Просвещения актуализировал восходящую к романтизму и историзму идею несопоставимости отдельных культур, причем упадок веры в разум (будь то человеческий или божественный, к которому так или иначе причастны все люди и народы) сделал конфликт их взаимонепонимания безысходным [213]. Культуры, за которыми, при всем их разнообразии, не стоит (в отличие от того, как это представлялось романтикам) общая для всех Культура (или божественный разум), делают критику Просвещения предприятием, обрекающим на исчезновение самую идею человечества. Но со смертью человечества обречены на утрату идентичности и его «подразделения», будь то народы или государства. Ведь если распадается идея высшей общности, то такой же неизбежно будет судьба общностей низшего порядка, поскольку номиналистическое разложение общностей нельзя остановить по произволу [214]. Понятия конкретных народов и государств вслед за абстрактными категориями социально-политического мышления обречены исчезнуть под обломками проекта Просвещения.
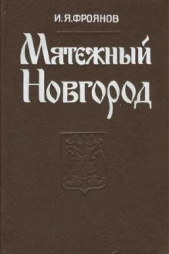




![Красный вал [Красный прибой]](/uploads/posts/books/39985/39985.jpg)




















