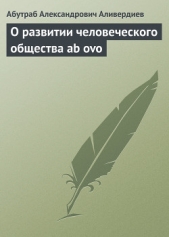Избранные труды. Теория и история культуры

Избранные труды. Теория и история культуры читать книгу онлайн
Книга посвящена проблемам истории и теории культуры. Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время с 1966— 2001 гг. Для настоящего издания прежде опубликованные статьи перерабатывались, многие статьи написаны специально для этой книги. Культура рассматривается как форма общественного сознания, отражающая характер и структуру общества, состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и надындивидуальные нормы и представления, основанные на обобщении этой практики и регулирующие поведение индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневно-бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности— привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту. Достоинство книги в том, что теоретические обобщения опираются на конкретный материал, возникают из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В обобщенной и несколько академизированной ретроспекции этот быт встает в книге И. Утехина. «Очерки коммунального быта»24 ; в своей пережитой документальной непосредственности—в воспоминаниях художника Домогацкого25 и Натальи Ильиной26 ; в просвеченном личной эмоцией художественном изображении — в «проклятой квартире» из «Театрального романа» и в первую очередь — в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, особенно если читать соответствующие ее страницы параллельно с их комментирующим мемуарным материалом27 ; в гротесковой шаржированности — в знаменитой Вороньей слободке Ильфа и Петрова (из романа «Золотой теленок», 1931), в трагическом опыте послевоенных лет в повести Бориса Ямпольского «Московская улица»28 .
Само обилие этих публикаций (а мы назвали весьма малую их часть) говорит о том, что перед нами целая полоса жизни русского общества советской эпохи. В каждой (кроме, может быть, первой) речь идет expressis verbis об интеллигенции: она— главный персонаж коммунальной эпопеи советской истории. В каждой говорится — в немногих более примирительно, в подавляющем большинстве остро конфликтно — о коммунальной квартире как о месте жестокой проверки способности интеллигенции остаться интеллигенцией и в каждой (опять-таки кроме этнографического исследования И. Утехина, где эта сторона дела находится вне рассмотрения) признается, что она ею осталась (там, где не заплатила психозом или гибелью). Интеллигенция Васильевского острова и окрестностей Таврического сада, Арбата и Чистых Прудов, Андреевского Спуска в Киеве и Волжской набережной в Нижнем — это интеллигенция. До революции и после нее, до Второй мировой войны и даже какое-то время после. Это значит, что в ней сохранялось — поверх конфликтов и распрей коммунального
1090
быта –– коренное интеллигентское чувство ответственности за решение стоявших перед страной общих задач. Об этом говорят единая общеобразовательная школа 30-х годов — бесспорно лучший этап в истории народного образования в России, где большую, если не большую, часть учителей составляли выходцы из дореволюционной интеллигенции, а большую часть учеников, «дети из народа»; массовое участие интеллигенции, разделившей «ярость всенародную» — в добровольном вступлении в армию летом и осенью 1941 г.; сохранение и передача основных своих ценностей в 60-е годы демократической интеллигенции новой формации.
Среди этих ценностей долгое время сохранялась — поверх опыта коммунального быта и как бы без малейшей с ним связи — способность к «счастью соединения с народом». Из фронтового дневника студентки ИФЛИ, ставшей лейтенантом Советской армии и отшагавшей в ее рядах от Ржева до Берлина: «… не принадлежишь себе, и это тоже способствует примирению с окружающим. Уже включена в единую с ними кровеносную систему. И, Боже мой, тебе уже легче, роднее с ними, у тебя уже бродят частицы их крови, ты проще, выносливее, тебя меньше мучит совесть, и чувство личной ответственности растворилось вместе с твоим растворением»29 .
Но нельзя не видеть и всего того, что в ходе этого испытания оказалось утраченным. Разобранный выше текст Достоевского не случайно имеет продолжение в виде очерка «Мужик Марей». Плохо зная русского крестьянина и в крепостную пору, интеллигенция в пореформенные десятилетия совершенно утратила всякое реальное о нем представление, но тем более страстно и настойчиво стремилась узнать в нем «мужика Марея» — носителя всего того, перед чем «мы должны преклониться». Возможность найти таких крестьян, по-видимому, была; автор настоящих строк встречал их (правда, считанные единицы) еще и в 20-е годы. Да и советский коммунальный быт изредка оставлял место не только конфликтам, но и известному «сплочению интеллигенции с народом». Доминирующая, итоговая тенденция, однако, состояла в безоговорочном опровержении традиционных интеллигентских иллюзий о мужике Марее и о возможности достойного, «на уровне высоких принципов» непосредственно личного, повседневно бытового «контракта» с советскими претендентами на представительство его. После 60-х годов, по завершении коммунальной эры ситуация как-то сама собой рассосалась, вопрос об инокультурных и иносоциальных контактах как о едкой постоянной фактуре повседневного быта утратил актуальность, но вместе с ним утратила актуальность, исчезла и одна из основополагающих иллюзий (и одновременно основополагающих
1091
черт) старой русской интеллигенции — ее готовность к «контракту с народом», невзирая наличные особенности каждого, кто в ее глазах к этому народу принадлежал и его представлял. Достаточно вспомнить мужичка, который неожиданно и непонятным образом появился в семье Герцена в Лондоне, был встречен восторженно как «настоящий русский крестьянин» и — начал знакомство с английской столицей с настоятельного приглашения старшему сыну Герцена посетить публичный дом, или пресловутого матроса Сашку, вселенного в порядке уплотнения в квартиру Блока и радушно встреченного семьей поэта, — описание некоторых его особенностей приходится опустить, оно для печати не совсем удобно. От подобных восторгов и подобного радушия коммунальный быт интеллигенцию отучил.
Несравненно более суровому испытанию подверглась способность интеллигенции остаться верной своему исходному облику в ходе перенесенных репрессий. Суть вставшей перед ней нравственной проблемы (не говоря обо всех прочих проблемах, если не более важных, то более жутких) была ясно сформулирована одним коренным русским интеллигентом и в течение многих лет убежденным высокопоставленным коммунистом: «Приверженность определенной отвлеченной идее, определенному общественному движению, а следовательно и неким обязательным целям, должны привести и к подчинению средств этим целям; таким "средством" может стать целая жизнь. Но если цели не осуществились или произошла в жизни общества подмена целей, то обесцениваются и средства, тогда может обесцениться жизнь человека»30 . В какой мере могла интеллигенция после «подмены целей» остаться интеллигенцией?
Февральскую революцию приняла большая часть интеллигенции, даже та, что оказалась впоследствии в эмиграции31 . Октябрьскую — очень значительная ее часть. В дальнейшем обе части становились не менее, а более многочисленными. В эмиграции это свидетельствуется сменовеховством, евразийским движением, сотрудничеством с советской разведкой людей из интеллигенции, ее (эмиграции) восторженной реакцией на предложение Молотова в 1946 г. возвращаться в Россию; в той части, которая оставалась в стране, — бесчисленным количеством людей, принявших установившуюся советскую действительность как, с одной стороны, действительность единственно данную, в которой надо выжить, а с другой — в исторической перспективе и в сравнении с западным капитализмом — действительность благую и справедливую и к тому же окрашенную с детства привычными фразами о том, что «народ
1092
всегда прав»32 . Поддержали революцию и люди иного типа, далеко не столь многочисленные, но несравненно более влиятельные идеологически, объединенные националистическими чувствами и готовностью видеть в большевизме благотворное возвращение к исконно народным допетровским корням33 . В идейном отношении - хотя отнюдь не в социокультурном и личном! — к ним примыкали и интеллигенты из среды националистически настроенного офицерства34 . Наконец, очень значительный слой, восторженно принявший революцию и надолго сохранивший эти чувства, составляли выходцы из той среды, которую революция избавила от дискриминационных ограничений, — еврейской интеллигенции и интеллигенции национальных окраин.
Все эти люди готовы были истово служить новой власти, дабы вместе с ней и под ее руководством отдать народу «многое из того, что принесли с собой». Власть ответила на такую готовность репрессиями. Интеллигенция не укладывалась в классовое представление о государстве, а свойственная ей потребность если не всегда участвовать в общественных делах, то всегда определенным образом относиться к ним, «при свете совести» плохо совмещалась с идеалом монолитного единства общества, безоговорочно и однозначно руководимого партией. Репрессии, как известно, были постоянным признаком советской власти, охватывали самые разные слои, и выделить среди них те, что были направлены против интеллигенции избирательно и специфично, нелегко. К такого рода репрессиям бесспорно относились меры, цель которых состояла в том, чтобы не дать интеллигенции воспроизводить самою себя (в первую очередь — ограничение для ее детей доступа к образованию, не только высшему, но и среднему); относилось поощрение литературных произведений, призванных дискредитировать интеллигенцию и представить в карикатурном виде ее нравственный кодекс, от «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» Ильфа и Петрова до «Студентов» Трифонова. Несравненно более важны и трагичны были бесконечные судебные процессы, как правило заканчивавшиеся расстрелом или концлагерем. Объектом таких преследований интеллигенция чаще всего становилась в составе других социальных групп, но были и случаи, когда таким объектом она становилась как таковая. В качестве примеров можно назвать хотя бы процесс Тактического центра (август 1920)35 или группу процессов так называемых мистиков, к числу которых относились масоны, тамплиеры, розенкрейцеры (конец 20-х — начало 30-х); можно вспомнить разгромы университетских факультетов в ходе антикосмополитической кампании 1949—