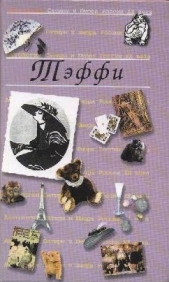Смех

Смех читать книгу онлайн
Книга «Смех» (1900) — единственный собственно эстетический труд крупнейшего французского философа А. Бергсона. Обращаясь к обширной области смешного в жизни и комического в искусстве, он вместе с тем дает глубокий анализ главнейших философских проблем: сущность человека, взаимосвязь индивидуального и социального, единичного и типического; природа художественного творчества и специфика эстетического восприятия. Ключ к разгадке проблемы комического он видел в разработанном им учении об эстетическом.
Для специалистов-философов, эстетиков, искусствоведов, а также читателей, интересующихся вопросами теории искусства и истории эстетики.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отметим теперь ту точку, в которой сходятся наши три предварительные замечания. Комическое возникает, по-видимому, тогда, когда соединенные в группу люди направляют все свое внимание на одного, из своей среды, заглушая в себе чувствительность и давая волю одному только разуму. Каков же этот особый штрих, на который должно направиться их внимание? Какое применение найдет здесь ум? Ответить на эти вопросы — значит приблизиться к нашей задаче. Но здесь необходимо привести несколько примеров.
Человек, бегущий по улице, спотыкается и падает; прохожие смеются. Над ним, мне думается, не смеялись бы, если бы можно было предположить, что ему вдруг пришло в голову сесть на землю. Смеются над тем, что он сел нечаянно. Следовательно, не внезапная перемена его положения вызывает смех, а то, что есть в этой перемене непроизвольного, то есть неловкость. Может быть, на дороге лежал камень. Надо было бы изменить путь и обойти препятствие. Но из-за недостатка гибкости, по рассеянности или неповоротливости, благодаря инерции или приобретенной скорости мышцы продолжали совершать то же движение, когда обстоятельства требовали чего-то другого. Вот почему человек упал, и именно над этим смеются прохожие.
Или вот человек, занимающийся своими повседневными делами с математической точностью. Но какой-то злой шутник перепортил окружающие его предметы. Он окунает перо в чернильницу и вынимает оттуда грязь, думает, что садится на крепкий стул, и оказывается на полу — словом, все у него выходит шиворот-навыворот или он действует впустую, и все это благодаря инерции. Привычка на все наложила свой отпечаток. Надо бы приостановить движение или изменить его. Но не тут-то было — движение машинально продолжается по прямой линии. Жертва шутки в рабочем кабинете оказывается в положении, сходном с положением человека, который бежал и упал. Причина комизма здесь одна и та же. И в том и в другом случае смешным является машинальная косность там, где хотелось бы видеть предупредительную ловкость и живую гибкость человека. Между этими двумя случаями только та разница, что первый произошел сам по себе, второй же создан умышленно. Прохожий, в первом случае, просто следовал своим путем, шутник, во втором случае, подвергался испытанию.
Как бы то ни было, эффект в обоих случаях определяется внешним обстоятельством. Комическое, стало быть, случайно: оно остается, так сказать, на поверхности человека. А как же оно проникает внутрь? Для этого необходимо, чтобы машинальная косность не нуждалась для своего проявления в препятствии, поставленном перед ней случайными обстоятельствами или человеческой хитростью. Необходимо, чтобы она естественным образом находила внутри себя беспрестанно возобновляющиеся поводы проявлять себя вовне. Представим себе человека, который думает всегда о том, что он уже сделал, и никогда о том, что делает, — человека, напоминающего мелодию, отстающую от своего аккомпанемента. Представим себе человека, ум и чувства которого от рождения лишены гибкости, так что он продолжает видеть то, чего уже нет, слышать то, что уже не звучит, говорить то, что уже не к месту, — словом, применяться к положению, уже не существующему и воображаемому, когда надо было бы применяться к наличной действительности. Комическое тогда будет в самой личности: она сама предоставит ему все необходимое — содержание и форму, основание и повод. Удивительно ли, что рассеянный человек (а именно таков только что нами описанный персонаж) главным образом и вдохновлял художников-юмористов? Когда Ла Брюер набрел на этот тип, он понял, разобравшись в нем, что нашел общий рецепт для создания забавных сюжетов. Он этим злоупотреблял. Он дает длиннейшее и подробнейшее описание Меналка, повторяясь и смакуя его сверх всякой меры. Его притягивала легкость сюжета. Может быть, рассеянность и не является источником комического, но она несомненно связана с фактами и идеями, непосредственно вытекающими из этого источника. Это одно из обширных естественных русел смеха.
Но эффект рассеянности может, в свою очередь, усиливаться. Существует общий закон, первое применение которого мы только что нашли и который можно сформулировать так: когда известный комический эффект происходит от известной причины, то эффект нам кажется тем более смешным, чем естественнее кажется причина. Мы смеемся уже над рассеянностью как над простым фактом. Еще более смешной будет для нас рассеянность, если она возникает и усиливается на наших глазах, если ее происхождение нам известно и мы можем проследить весь ход ее развития. Например, предположим, что кто-то избрал своим обычным чтением любовные или рыцарские романы. Увлеченный, зачарованный их героями, он мало-помалу сосредоточивает на них свои помыслы и свою волю. Он бродит среди нас, словно лунатик. Все, что он ни делает, он делает рассеянно. Но все его проявления рассеянности связаны с известной нам и вполне определенной причиной. Это не есть свидетельство отсутствия; рассеянность здесь объясняется присутствием личности во вполне определенной, хотя и воображаемой среде. Несомненно, падение всегда есть падение; но одно дело упасть в колодец, потому что смотришь куда-нибудь в сторону, другое — свалиться туда, потому что загляделся на звезды. Ведь именно звезду созерцал Дон Кихот. Как глубок комизм романтической мечтательности и погони за химерой! Между тем если взять рассеянность как связующее звено, то можно видеть, что очень глубокий комизм связан с самым что ни на есть поверхностным комизмом. Да, эти увлеченные химерами люди, взбалмошные, безумные и так странно рассудительные, вызывают у нас смех, затрагивая в нас те же самые струны, приводя в движение тот же самый механизм, что и жертва шутки в рабочем кабинете, и прохожий, поскользнувшийся на улице. Все они похожи — и падающие прохожие, и наивные жертвы обмана, преследующие свой идеал и спотыкающиеся о действительность, чистые сердцем мечтатели, которым коварная жизнь расставляет ловушки. Все они — рассеянные люди, более заметные потому, что их рассеянность систематическая, вращающаяся неизменно вокруг одной и той же главной идеи, потому, что их злоключения тоже связаны между собой той неумолимой логикой, с помощью которой жизнь обуздывает мечтательность, потому, что их действия дополняют друг друга, и все это вызывает вокруг них бесконечно возрастающий смех.
Сделаем теперь еще шаг вперед. Не то же ли самое, что для ума навязчивая мысль, для характера — некоторые пороки? Порок, будь то от природы дурной характер или изуродованная воля, часто свидетельствует об искривлении души. Существуют, без сомнения, пороки, в которые душа внедряется со всей своею оплодотворяющей мощью и, оживотворив их, вовлекает в круговорот преобразований. Это — трагические пороки. Порток же, делающий нас смешными, это тот, который, напротив, приходит к нам извне, как уже готовое обрамление, и мы переносимся в него. Он навязывает нам свою косность, вместо того чтобы позаимствовать нашу гибкость. Мы не усложняем его; напротив, он упрощает нас. В этом, мне думается, заключается — как я постараюсь показать в последней части этого исследования — главное различие между комедией и драмой. Драма, даже если она изображает страсти или пороки общеизвестные, так глубоко воплощает их в человеческой личности, что их названия забываются, их характерные черты стираются и мы уже думаем вовсе не о них, а о воспринявшей их личности. Вот почему названием драмы может быть почти исключительно имя собственное. Напротив, много комедий имеют названием имя нарицательное: Скупой, Игрок и т. п. Если бы я предложил вам представить себе пьесу, которую можно было бы назвать, например, Ревнивец, то вам пришел бы на ум Сганарель или Жорж Данден, но никак не Отелло; Ревнивец может быть только названием комедии. Дело здесь в том, что, как бы тесно ни был соединен смешной порок с человеческими личностями, он тем не менее сохраняет свое независимое и обособленное существование; он остается главным действующим лицом, невидимым, но постоянно присутствующим, к которому на сцене временно приставлены персонажи из плоти и крови. Порой, забавляясь, он увлекает их за собой своей силой, заставляя катиться вместе с собой по наклонной плоскости. Но чаще всего он обращается с ними как с неодушевленными предметами и играет ими как марионетками. Присмотритесь повнимательнее — и вы увидите, что искусство поэта-юмориста заключается в том, чтобы настолько близко познакомить нас с этим пороком, до такой степени ввести нас в самую его сущность, чтобы и мы в конце концов получили от него несколько нитей марионеток, в которых он играет. Тогда мы, в свою очередь, начинаем играть ими, чем отчасти и объясняется наше удовольствие. Следовательно, и здесь все еще наш смех вызван чем-то автоматическим, и этот автоматизм очень близок к простой рассеянности. Чтобы убедиться в этом, достаточно заметить, что комический персонаж смешон обыкновенно ровно настолько, насколько он не осознает себя таковым. Комическое бессознательно. Комический персонаж использует кольцо Gyges'а как бы наоборот: становясь невидимым самому себе, он остается видимым всем другим. Действующее лицо трагедии ни в чем не изменит своего поведения, узнав, что мы о нем думаем; оно может вести себя по-прежнему, даже вполне сознавая, что оно представляет собою, даже ясно понимая, что внушает нам отвращение. Человек же, обладающий смешным недостатком, почувствовав себя смешным, стремится измениться, по крайней мере внешне. Если бы Гарпагон видел, как мы смеемся над его скупостью, он не скажу, чтобы исправился, но стал бы меньше выказывать ее перед нами или делал бы это как-то иначе. Отметим при этом, что смех главным образом именно так «бичует нравы». Он тотчас же заставляет нас казаться тем, чем мы должны были бы быть, тем, к чему мы придем однажды, став самими собой.