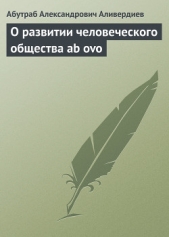Избранные труды. Теория и история культуры

Избранные труды. Теория и история культуры читать книгу онлайн
Книга посвящена проблемам истории и теории культуры. Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время с 1966— 2001 гг. Для настоящего издания прежде опубликованные статьи перерабатывались, многие статьи написаны специально для этой книги. Культура рассматривается как форма общественного сознания, отражающая характер и структуру общества, состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и надындивидуальные нормы и представления, основанные на обобщении этой практики и регулирующие поведение индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневно-бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности— привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту. Достоинство книги в том, что теоретические обобщения опираются на конкретный материал, возникают из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1054
чумы. / Откуда же эта печаль, Диотима?»44 — и т. д. Сопоставление с Офелией, которая «нас помянет», и с теми, кого не поманит калач ржаной, напрашивается само собой.
Идентификация — категория историческая. Три эпохи культуры XX в. — это три «мы». В этом находит себе объяснение, в частности, открытость Окуджавы 30-м годам, ибо и здесь корень и суть проблемы — в идентификации. Какой и с чем?
Родители поэта, их круг и их сверстники, люди 30-х годов, тоже начинали с громкого упоенного «мы». Тогда, в дни революционных праздников 1 Мая и 7 Ноября, из открытых окон их комнат в коммунальных квартирах громко и победно лились песни: «Мы наш, мы новый мир построим…», «Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело…», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…», «Мы идем боевыми рядами, дело славы нас ждет впереди…» На школьных вечерах их дети читали Маяковского: «Хорошо у нас в Стране Советов…»45 , а на вечеринках — Светлова: «Мы ехали шагом, / мы мчались в боях / и "Яблочко"-песню / держали в зубах…»46
Но с самого начала, и чем дальше, тем яснее, становилось очевидно, что в таком «мы» заложены две противоположные тенденции. Одно «мы» — это «я» плюс те среди «они», кого я ощутил как себе близких, реально или потенциально, «мы», сохраняющее индивидуальность «я», его нравственный выбор. Другое «мы» — это тотальное единство, монолит, где индивидуальные различия несущественны или преодолены, а верность целому как верность собственному выбору и личным убеждениям, в нем реализованным, подлежит искоренению. Этика и эстетика 30-х годов строились на императиве неразличения, совмещения, отождествления обоих «мы», и 30-е годы длились как культурная эпоха до тех пор, пока это удавалось. Вспомните «Горийскую симфонию» Заболоцкого, «Ты рядом, даль социализма…» Пастернака, «Оду» Сталину Мандельштама. Лидия Яковлевна Гинзбург, вспоминая эту эпоху, характеризовала ее словами «жажда тождества»47 . Время и люди упорно старались не замечать, что оба «мы» находятся между собой в динамических отношениях и первое перерастает во второе. Эволюцию документировали опять-таки доносившиеся из окон песни. Сначала - единство, основанное на нравственном выборе: «Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем»; потом, во имя единства, — отказ в праве на выбор: «Кто не с нами, тот наш враг, тот против нас»; и наконец — новое обретенное единство, единство без «я», единство-монолит: «Нас вы-
1055
растил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил», где духовная активность, способность к труду и подвигу вообще не коренятся в личности каждого, а должны быть «выращены» извне и только в «нас» в целом.
Окуджаве дано было ощутить сначала, какой соблазн заложен в удовлетворении «жажды тождества». Об удовлетворении этой жажды непрестанно слышал он от родителей, о нем рассказ в «Упраздненном театре» — про новое пальто, отданное сыну дворника48 , сюда же — признание насчет «усача кремлевского люблю» и «Сентиментальный марш»49 вместе со сродными мотивами и стихотворениями. Но дальше становилось все яснее, какая дьявольская диалектика заложена в генетическом сродстве обоих «мы», что значит неуклонное возобладание второго, тотального «мы» над первым — над «мы» личного выбора и диалога. И тогда вставал вопрос об их разделении. Подавляющее большинство современников с этой задачей не справились: либо прежнее монолитное «мы», либо никакого. Окуджава сумел найти ответ наиболее точный философски и наиболее достойный лично - не продолжать упрямо стремиться идентифицироваться с временем, выйти из идентификации, избавиться от иллюзий, с ней некогда связанных, стать собой50 , но при этом сохранить верность чувству «мы» как исходному принципу нравственной ответственности и культуры. Ответ этот выражен наиболее ясно в сквозной теме его песен — в теме Арбата.
Бесспорно и очевидно, что Арбат Окуджавы — это не Арбат времени написания песен, ему посвященных, что это ретроспективный образ из 30-х годов. На это указывают довоенные ситуации в некоторых песнях: в явно арбатском дворе радиола играла и пары танцевали до того, как «мессершмитты», как вороны, / разорвали на рассвете тишину»51 ; те же дворы стали тихими летом 1941 г., так что «мальчики» и «девочки», их населявшие, были «нашими» задолго до того; «старыми арбатскими ребятами» названы те «грустные комиссары», что погибли в 37-м и 38-м годах. О возникновении образа Арбата из дымки лет, с большой временной дистанции, говорит и признание автора в том, что после возвращения в Москву в 1956 г. он у себя на Арбате не бывал52 , и о том же говорит слово «когда-то» в описании арбатских «когда-то мною обжитых»53 мест.
Прямое признание в том, что шестидесятнически воспетый Арбат — плод ретроспективной мифологизации, содержится в «Арбатских напевах» 1982 г.54 «Все кончается неумолимо», и автор нахо-
1056
дится в «вечной разлуке» со «святыми арбатскими местами»; да к тому же недостоверна и сама их святость, ибо «по-иному крылатым» становится в них то, что на самом деле «было когда-то грешно». Но и переместиться на этом основании в другое, наступившее, постарбатское и внеарбатское время и ощутить себя своим в нем тоже нет возможности, ибо уж слишком тут, «в Безбожном переулке» — еще больше, чем на современном Арбате, — и «речи несердечны, и холодны пиры». Выход — в признании истины: Арбат сегодня — «души отраженье — /этот оттиск ее беловой, / эти самые нежность и робость, / эти самые горечь и свет, / из которых мы вышли, возникли. / Сочинились… / И выхода нет». Того Арбата, образ которого господствует в лирике 1957—1963 гг., нет, да и был ли он как действительность, как фактическая реальность и тогда, в 30-х, и когда были, если они были, «мы» — сердечные речи и теплые пиры? Конечно, были, были тогда, раз из них мы «вышли» и «возникли», и, конечно, в натуре их не было тогда и нет сейчас, ибо они — это лишь беловой оттиск души, ибо они — «эти самые нежность и робость, / эти самые горечь и свет», из которых мы не только вышли и возникли, но и сочинились.
Перед нами самая подлинная и самая глубокая форма исторического бытия — его миф, единство нормы и жизненной практики, от этой нормы отличной, но ею и формируемой. В этой практике самой по себе никакого «мы» нет — она в том, что «ходят оккупанты в мой зоомагазин»55 . Но миф вечен как человеческое сознание, как его способность не исчерпываться жизненной эмпирией, а возвышаться над ней и делать ее предметом творчества и духа. И там, в нетленной реальности мифа, были и навсегда остались и «мы», и самоидентификация — с суетой дворов арбатских и интеллигентским Арбатом в целом, с теми его окнами, где ждут и не спят четыре года, с полночным московским уютом, со всеми, кто «успел сорок тысяч всяких книжек прочитать», кто «рукой на прошлое: вранье!» и «с надеждой в будущее: свет!»56
Именно эта мифологическая нормативность самоидентификации, переживание культуры как диалога между «я» и «мы», весь опыт поколений, сохранивших в себе противоречивое единство единицы и целого, свободы и ответственности, оказались сначала под скептическим сомнением, а потом — под яростным отрицанием в заключительной фазе цивилизации XX в. Надо ли удивляться, надо ли сомневаться, что ее пейзаж и ее воздух оказались для Булата Окуджавы невыносимыми и роковыми?
1057
* * *
Российский вариант этой фазы цивилизации, который Булату Окуджаве дано было пережить непосредственно, знаком и памятен до боли: демократическая эйфория конца 80-х; выход на авансцену и повсеместное утверждение нравственного одичания, созданного предшествующими десятилетиями, в рамках которого свобода — всегда синоним распоясанной вседозволенности; торжество чистогана и императивность подчинения ему, несовместимые с ценностями и с самим бытием русской интеллигенции, и многое другое. То было, однако, частное преломление глобальных сдвигов, которые все яснее прорисовывались в атмосфере тех лет и которые Окуджава с его феноменальной чуткостью к любым таким атмосферическим веяниям вряд ли мог не ощущать. Постмодерн как заключительная фаза цивилизации XX в. родился из бунта против насильственно и восторженно коллективистского, исключающего личность, тотально унифицирующего «мы», но бунта, зашедшего так далеко, что на месте не только тоталитарного, но любого «мы» оказалась либо дисперсия, взвесь, толпа, либо ее изнанка — единство, основанное на общем отвращении к «шибко грамотным», к тем, кто ощущает свою принадлежность к людям, к группе, к целому не как к безликой толпе, а как к избранному мной, в соответствии с моей индивидуальностью, опытом, вкусами, душой, «нашему союзу». Поэтому «мы», соответствующее третьему из культурно-исторических этапов, нами пережитых, в сущности, уже не «мы», во всяком случае, не то, с которым прожили жизнь Булат Окуджава, а вместе с ним и все наше поколение. Все общее, все связующее и объединяющее, признаваемое не только мной, но и императивное для мира вокруг — логика, истина, ответственность перед ней, норма, история и пережитые в ней ценности, любовь к своему и неприятие чужого при всей готовности понять чужое и вести с ним диалог, - все раскрывается как придуманное и искусственное, как насилие над «я» и вызывает в лучшем случае осуждение, иронию, пародию, в худшем — яростное стремление подавить, разрушить, уничтожить.