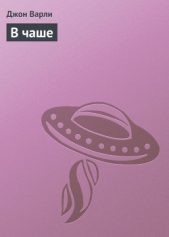В глубь фантастического. Отраженные камни

В глубь фантастического. Отраженные камни читать книгу онлайн
Роже Кайуа (1913–1978) — блестящий эрудит и виртуозный эссеист. Предметом его внимания в данной книге является таинственное — будь то загадочные порождения творческой фантазии художников или странные, волнующие воображение творения природы. Непознанное — не значит непознаваемое, убежден Роже Кайуа. С его точки зрения, удивление перед тайной лишь стимулирует пытливый ум исследователя, вызывает стремление «расшифровать» смысл неразгаданных явлений, найти ключ неведомого кода. Читателю предстоит с увлечением следить за развитием аналитической мысли, вдохновляемой открытиями творческой интуиции писателя.
Произведения, вошедшие в книгу, печатаются на русском языке впервые.
Издание осуществлено в рамках программы» Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.
Ouvrage r?alis? dans le cadre du programme daide ? la publication Pouchkine avec le soutien du Minist?re des Affaires Etrang?res Fran?ais et de l Ambassade de France en Russie.
Roger Caillois: AU C?UR DU FANTASTIQUE. PIERRES R?FL?CHIES
Gallimard, Paris
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Камни с рисунками — кладовые грез. Это приманка для воображения: оно не успокоится, пока не отыщет в этих коробах какой-нибудь образ. Иллюзорные картины, которые оно скорее проецирует, нежели открывает, целиком зависят от случая — я хочу сказать: от стечения скрытых причин. Вот почему, завораживая своим неизбежно фантастическим, но в то же время произвольным характером, они отчасти так и остаются для нас лишенными смысла. Совсем иначе обстоит дело с окаменелостями: они, напротив, порождены неумолимо-строгой морфологией. В них нет ничего от грезы. Разум вынужден воспринимать их во всей полноте индивидуальной геометрии.
К ним восходит начало архива жизни. Окаменелости не принадлежат царству минералов, хотя и оказались стремительно в него водворены. Новая энергия создала для них небывалую форму, которая означает конец хаоса. Они свидетельствуют не о постоянстве видов, но о неограниченном копировании теперь уже устойчивых образцов. Ракушки-призраки, то вполне целые, то поврежденные, позволяют представить первую обитель дрожащей эмульсии, которая трепетала всего одно мгновение. На фоне зарева тонкие, кольчатые, острые ракеты во все стороны разметало в толще материи, лишенной памяти, — их опустевшие кабины отныне недвижны и бессмертны.
Скелеты, из которых жизнь выжата до капли, однажды обратились в камень. Многоярусные высотные здания, напоминающие шипы, бессмысленно заостренные пирамиды, зубы нарвала, не витые, а вытянутые, как башни, рассеяны в застывшей массе. Среди этих шпилей сплющенные спирали других жилищ, закрученные, как бараний рог Юпитера Амона, но компактные и круглые, словно диск дискобола, запечатлевают космическое движение туманностей, доносят в недра осадочных пород чистое эхо пустого пространства.
Миновали эпохи. Мраморный оссуарий [101] занял место испарившихся морей. Неистощимое терпение замедленной хронологии, физика нежных и упорных сжатий, алхимия металлоносных солей сберегли от возврата в исходную невнятность хрупкую и отважную речь форм. Грубый динамит, а вслед за ним пила каменолома явили свету коллекцию рисунков, будто нанесенных мелом на фантастическую стену, отливающую множеством муаровых и глянцевых оттенков — лилово-черничных, воронено-синих, багровых, как набухшая слизистая. Облеченные великолепным саваном, объятые огнем, который не сжигает — увековечивает, сияют эрфудские отпечатки [102].
Так сумма разрозненных монограмм составила первый воображаемый музей. Второй впоследствии соберет самые значительные из заранее обдуманных творений, которые человек создавал, преследуя только одну — или еще одну — цель: выразить нечто, его волнующее, — достичь совершенства, именуемого на его языке, довольно выспренно и так неопределенно, красотой. Древние остатки представляют реестр форм, предваривших позднейшее появление человека. Они описывают былое совершенство, за которым не стояли мысль, проект и выбор, иное превосходство, которое не было наградой мастерства или счастливого вдохновения, зато обходилось без переменчивых людских восторгов.
Призматическая архитектура кристаллов утвердила в инертном веществе власть порядка и постоянства. Потом начались дерзкие инновации, словно кто-то искал выход: суровый полиэдр отвергнут — чаши, завитки, спирали раковин открыли противоположный путь, мир пустотелой криволинейности заполонили хрупкие известковые футляры. Они служили защитой еще более уязвимой мягкой плота — и это уже были губы.
Среди камней с узорами тосканские известняки справедливо относят к самым строгим. Рисунок здесь иногда сводится к нескольким линиям, обрамляющим монохромное пятно цвета сливы или ржавчины, лаванды или абсента. Нейтральный контур выделяет пустынную луговину, над которой змеятся испарения. Эти отравленные пастбища, покинутые скотом и даже призраками, озарены слабыми отблесками какого-то опального светила.
Сквозь неровные отдушины средь ясного полдня открываются потусторонние ночные ландшафты, окрашенные в глухие, мягкие тона. В расселине скалистой породы видны водоемы, озера (или чаны), полные недвижной жидкости — темной, тяжелой, слишком вязкой для жизни, похожей на асфальт или битум Мертвых Морей; емкости, которые некогда служили китайским астрономам для измерений движения звезд, а теперь, заброшенные, отражают лишь небосвод, совсем темный или поблекший.
Иной раз на размытых полях возникают густые поперечные штрихи, выстраивая в пространстве широкий кружевной пилон. Лонжероны, балки, перекладины — арматура этажей сужающегося кверху здания становится все более воздушной, словно с высотой она постепенно избавляется от плотности; а может быть, это означает, что войти и выйти одинаково легко. Сплетение труб чертит головокружительную перспективу, наподобие Эйфелевой башни, рассматриваемой снизу по центральной оси, или гигантской нефтяной вышки, нацеленной острой вершиной в небо, скрывающее нечто более невероятное, чем нефтяной карман в недрах земли. Ажурный каркас, насколько хватает зрения, оплетает необратимо сужающуюся воронку. Взгляд летит в лазурную бездну, желая подцепить там ослепительно яркий, недоступный метеор и завлечь его в роковую сеть, где жар свечения угаснет и скоро станет почти невидим, иссякнет в игре спектральных призматических отблесков, растворится среди бледных миражей, в бесцветной праздности.
Между тем заросли колючек на унылых склонах все так же сухи под постоянным и неукротимым ливнем. За ускользающей чередой ближних декораций, пурпурных или коричневых, проглядывают полотнища задника: сливаясь до неразличимости, они меркнут и наконец пропадают из вида, как бесконечные отражения в зеркалах, поставленных одно против другого. Фон выцвел и много испытал: он изборожден косыми полосами, рассечен узкими отверстиями, прорезан биссектрисами, испещрен зарубками молний и дротика, — и никогда ничто не напоминает о присутствии здесь живого существа или предмета. Разреженные пространства, просветы, в которых открывается только небо, где нет ни птиц, ни облаков. Жуткая пустынность восхищает, ошеломляет, заставляет отступить.
Камни стары: старше жизни, старше человека, которому они дали материал для первых орудий, первого оружия. И для укрытий, святилищ, могил, не говоря уже о решающей искре, исторгнутой из строптивого кремня. До камней не было ничего — лишь геометрия пустых пространств. Звезды, рождаясь, сложены минералами, а когда они гаснут, истощив запас жизни, то лишь снова становятся инертным веществом, изгнавшим все, что трепещет и дышит, все непрочное и преходящее. Они вновь обретают свою устойчивость, свою суровую основу: хронологию, в сравнении с которой любая долговечность — только миг.
В бесчисленных породах — конгломератах случайного и локального — развернута целая гамма возможных различий. Напротив, ряд химически определенных, однородных минералов с правильной, специфической, незыблемой структурой атомов легко исчерпывается. Их количество раз в двадцать превышает число элементов таблицы Менделеева, которых немногим больше сотни. Кажется, это почти ничто рядом с тремястами пятьюдесятью тысячами описанных видов жесткокрылых или ста двадцатью тысячами известных видов бабочек.
Минералы и горные породы представляют собой неподвластный времени театр, где последний актер трижды обходит сцену, прежде чем ее покинуть. Впрочем, эти высокие шедевры сценографии явлены в их выразительной наготе только там, где продолжение жизни невозможно: на ледяных вершинах или в пекле и ночном холоде пустынь. Непогода, тектонические взрывы, непрерывное выветривание продолжают формировать ландшафты, которые эфемерному узурпатору кажутся воплощением вечности. В остальном почти все по-прежнему скрыто от взгляда в толще земных недр.
Я не устаю перебирать камни, один за другим. Абстрактные призмы кристаллов (они, как и души, не отбрасывают тени) дарят мне чудо гладкой, прямолинейной, незамутненной прозрачности: твердость, порядок, пустоту и блеск — все сразу. Летучая ртуть раскрывает передо мной чудо замерзшего и жидкого металла. Темное зеркало обсидиана порой удерживает в сумрачном плену пойманную радугу. Дендриты марганца в известняке, в кремне, даже в непроницаемом кварце копируют и превосходят изяществом филигранную изрезанность хвощей и плаунов. В сероватых агатовых ядрах таятся ледовые завесы, планы симметричных крепостей, лесные пожары, обильные искрами и пеплом. В толще яшмы, гранита, слюды рассеяны повторяющиеся знаки непонятного алфавита. Самые невообразимые рисунки не противоречат простоте божественной геометрии. Галенит сложен кубами, флюорит — октаэдрами, кальцит представляет ромбоэдр, пирит — пентагондодекаэдр. Наконец, сильнее, чем любая другая фигура, удивляет своей предельной строгостью совершенный треугольник — тот, что всегда сопутствует турмалину или бесконечно отражается на поверхности железного блеска.