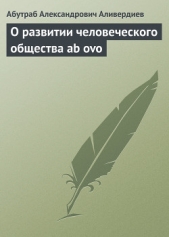Избранные труды. Теория и история культуры

Избранные труды. Теория и история культуры читать книгу онлайн
Книга посвящена проблемам истории и теории культуры. Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время с 1966— 2001 гг. Для настоящего издания прежде опубликованные статьи перерабатывались, многие статьи написаны специально для этой книги. Культура рассматривается как форма общественного сознания, отражающая характер и структуру общества, состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и надындивидуальные нормы и представления, основанные на обобщении этой практики и регулирующие поведение индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневно-бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности— привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту. Достоинство книги в том, что теоретические обобщения опираются на конкретный материал, возникают из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1036
ятной, согласно которой Август был отравлен его женой Ливией. «Моя жена, - пишет Крэклайт в очередном письме к Булэ, - отравляет меня, это часть ее натуры». «Он считает, — замечает в другом эпизоде один из итальянцев, — что он Булэ, но живот у него болит, как у Августа». На протяжении картины дважды упоминаются смоквы — ими согласно той же версии Ливия отравила Августа. В последний раз они возникают в самом конце фильма во время очередной фантасмагории неумеренной еды на фоне того же Пантеона. Почти все упоминания Августа связаны с темой отравления, а через него - с очагом и приемником отравы — с животом, брюхом. Оно фигурирует в названии картины и является главным, центральным, наиболее емким универсальным ее образом.
В истории искусства живот занимает особое место. Пластика человеческого тела есть эстетическая форма и инобытие человеческого духа, соединительное звено между экзистенциальной единственностью данного индивида и целостным, единым, внешним по отношению к нему материальным миром природы. Поэтому для греков гимнастика и пляска были формами включения человека в мировые ритмы, поэтому римский поэт сказал, что в здоровом теле пребывает и здоровый дух, поэтому поэты и художники всегда воспевали части человеческого тела, в которых эта связь и пластическое совершенство выступали особенно ярко: Дианы грудь, ланита Флоры, глаза, словно неба осеннего свод, пальцы Форнарины… Живот не входит в этот бесконечный образный ряд — разве что в библейской Песни Песней, у Санчо Пансы да у рубенсовского Силена — считанное число раз за всю историю европейского искусства. Метафорический и знаковый смысл живота - еда, поглощение пищи и переваривание ее, съеденное усваивается, входит в плоть и кровь. Это слишком натуралистическая, грубо плотская сфера, плохо ассоциирующаяся с поэзией и пластикой, с духом человека и строем мира — только как чрево, вместилище субстанций, перерабатываемых в соки и силы жизни. Исходный смысл образа живота в фильме Гринауэя — именно этот. В оригинале картина называется «The Belly of the Architect. Belly», разъясняет Оксфордский словарь, - это «обозначение тела в аспекте потребления пищи, аппетит, обжорство». Кадры, показывающие живот Крэклайта, упоминания и разговоры о нем, сама его плотная могучая фигура с выдающимся крепким животом — лейтмотив картины. Но по мере того как в живот архитектора входит отрава — дегенерированно привлекательная, подлая и красивая, коварная, мелкая и жульническая атмосфера Вечного Города, среда, в которой живут, воруют и ловчат потомки Ромула, прежде
1037
всего отказывает живот, болезнь угнездилась в нем, в средоточии былого здоровья, грубой простоты, плебейской силы, подрывает и уничтожает их. «Вы не привыкли к итальянской пище», -разъясняет Крэклайту причину его болезни врач-итальянец.
Исподволь и нарастая, однако, смысл лейтмотива меняется. Живот — не только самая грубая и непоэтичная часть человеческого тела, это еще и самая мягкая, незащищенная, уязвимая его часть. У охотников есть выражение: мягкое подбрюшье зверя. На фоне накопленной за века хищной энергии римлян грубость пузатого и наивного американца, по происхождению крестьянина из штата Айова, больше выступает как примитивность, переходящая в показную самоуверенность, самоуверенность, переходящая в слабость, и слабость, переходящая в затравленность и страдание. По мере того как боли усиливаются, живот архитектора становится все более обвислым, дряблым, Крэклайт все более озабоченно оглядывает и ощупывает его. «Мое брюхо уничтожает меня изнутри», «Булэ умер от рака». И ключевые слова героя, почти завершающие фильм: «У Иисуса Христа тоже болело брюхо, за это его и распяли». Культурно-ассоциативный принцип, лежащий в основе кинематографического мышления Гринауэя, выступает здесь во всей своей яркой, разительной силе. В фильме есть кадр, где Крэклайт беседует со своими итальянскими антрепренерами. Внезапно он ощущает мучительную боль - один из первых признаков его смертельной болезни. Он прерывает разговор, группа его собеседников остается на первом плане, а сам Крэклайт уходит, исчезая в глубине странной архитектурной декорации — в уводящем в темноту архаически выглядящем каменном коридоре. По композиции, персонажам, психологическому смыслу кадр явно рассчитан на прямую ассоциацию с «Бичеванием Христа» Пьеро делла Франческа. Плоскость изображения разделена здесь надвое. Слева в ограниченном, довольно тесном архитектурном пространстве происходит бичевание под бдительным взглядом сидящего поодаль человека в кардинальском платье, а справа, за пределами архитектурно оформленного пространства, но тут же рядом, на его пороге располагается группа современных художнику итальянцев, похожих на купцов, с озабоченными лицами ведущих какой-то деловой разговор22 .
Живот как образ ранимости, беспомощности, страдания сводит воедино несколько линий фильма, внося в него отсветы и отзвуки гуманизма, сострадающего, отнюдь не ироничного и потому столь непривычного, странного в постмодернистском контексте. Живот, мягкое подбрюшье, примитивное и грубое, но
1038
такое ранимое и открытое боли, тайная ниша страдания, болел не только у Христа. На репродукциях статуи Августа постоянно кад-рируется живот - смысл этого мы только что выяснили. Жена Крэклайти уходит от него, последнее объяснение происходит в каком-то старинном дворцовом помещении, весь каменный пол устлан бесчисленными компьютерными отпечатками толстого мягкого живота. Специалисты-искусствоведы узнают деталь одной из картин итальянского художника XVI в. Бронзино. Вся европейская культурная традиция, разоблачаемая в фильмах Гринауэя, в тайной глубине своей несет образы беспомощной страдающей плоти и униженного, оболганного в ней духа.
Финал картины — вернисаж. Жена Крэклайта произносит, по-видимому, написанную для нее кем-то из итальянцев речь во вкусе лекторов ЮНЕСКО — профессорское бельканто на темы гуманизма, демократии и прогресса. Обычная вернисажная суета. В ней и за ней прорисовываются персонажи иного плана, от нее неотделимые, в нее вписанные и тем не менее от нее отличимые. Повод всего происходящего - Булэ — теневая фигура французского предреволюционного классицизма, мало что построивший, автор бумажных проектов странных зданий, стилизованных под геометрические объемы, скрытый в истории искусства за импозантной фигурой своего знаменитого современника и единомышленника Леду — «Булэ тоже умер от рака». Появившийся на празднике незваным, Крэклайт недолго бродит, всем чужой, по выставочному павильону и, наконец, становится в оконной нише верхнего этажа. Поза его напоминает одновременно и оранту («У Христа тоже болело брюхо»), и статуи римских императоров, которые нередко, особенно в театрах, располагались в подобных нишах. В такой нише и примерно в такой же позе должен был стоять и Август («Ливия тоже пыталась отравить Августа с помощью смокв»). Спиной назад Крэклайт падает в проем, и мы видим его, уже мертвого, лежащим на крыше припаркованного внизу автомобиля. Свисает рука, ветер треплет зажатую в ней банкноту, на банкноте портрет Ньютона. Ньютон — классическая фигура той цивилизации, которую в мире вокруг Гринауэя называют модерном. Он представил Вселенную как совокупность движущихся тел и их математически рассчитанных орбит. Вселенную гармоничную и уравновешенную, которая и есть Бог — геометрия нерожденная. Он не может не быть близок Крэклайту, который, как архитектор, тоже действует в мире расчетов, равновесия и гармонии.
Перед нами «модерн», понятый таким образом, что это тип культуры, который ее работники, ее корифеи несут в себе, ее созидают
1039
и ею же уничтожаются. Трагический постмодерн. Его трагическая тональность углублена и усилена как бы растворенным в фильме присутствием автора. Соблазны европейской культуры им разоблачаются, но в нем и живут. «Здесь я дома», — говорит о Риме Крэклайт, но и Гринауэй — напомним — говорит в интервью, что Рим его любимый город. Любимый и уже не свой. «Фактически мой фильм — взгляд на Рим извне. Нас трое - Этьен-Луи Булэ, никогда не покидавший Парижа, Стауэрли Крэклайт, прибывший из Америки, и Питер Гринауэй, выходец из холодной Северной Европы. Каждый, на свой лад, турист в Риме»23 . Турист, прибывший в город своей мечты и сполна заплативший за обнаружение того, что в ней скрыто: Булэ — превращением своего гениального проекта в торт, Крэклайт — жизнью, Гринауэй — своим, может быть, не до конца отрефлектированным самоотождествлением с героем фильма, внутренним сопереживанием его судьбы. Герой живет в Риме в противоестественно огромных дворцовых интерьерах — в таких же, какие предоставляют модному режиссеру муниципалитеты итальянских городов. Эти интерьеры стилистически датируются временем барокко и маньеризма — Гринауэй говорит о близости нашего времени тому, что выражало себя «в самый разгар маньеризма, на полпути между Высоким Возрождением и барокко, в эпоху великой эклектики»24 . Ближе к концу фильма есть эпизод, когда Крэклайт перебирает свои эскизы; перебирает он их с такой быстротой, что понять и узнать их в ходе демонстрации фильма невозможно. Только остановив изображение, можно увидеть, что перед нами рисунки самого Гринауэя. Интервьюер попытался расспросить режиссера, зачем это так сделано, последний ушел от ответа — о переживаниях, которые рождают такие сближения в интервью, по-видимому, говорить не хочется25 .