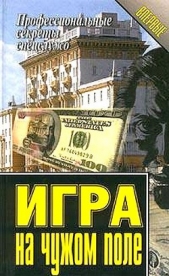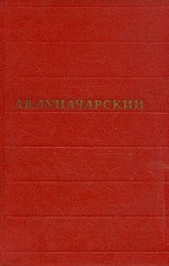Феноменология текста: Игра и репрессия

Феноменология текста: Игра и репрессия читать книгу онлайн
В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века. И здесь особое внимание уделяется проблемам борьбы с литературной формой как с видом репрессии, критической стратегии текста, воссоздания в тексте движения бестелесной энергии и взаимоотношения человека с окружающими его вещами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сама пьеса, сочиненная Ля Троб, воссоздает этапы становления духа английской литературной традиции. И этот дух видится мисс Ля Троб (и, разумеется, Вирджинии Вулф) патриархальным. Пьеса рассказывает о последовательном изгнании природной энергии, утверждении сугубо мужских ценностей и добродетелей, которые в итоге приводят к распаду культуры и общества. Мисс Ля Троб призывает публику вспомнить о подлинных истоках культуры, связанных с фигурой женщины. Но лишь Люси Суизин и Айзе удается разгадать этот замысел. Не случайно каждая из героинь обращается к размышлениям о первобытных людях, которые, возможно, испытывали больше счастья, чем люди цивилизованные, ибо были вовлечены в движение природы.
В романе «Между актов» Вирджиния Вулф развивает поэтику, знакомую нам по ее прежним текстам, и в то же время предлагает новые способы организации художественного материала. Она вновь показывает нам, как в сознании человека последовательно складывается образ действительности, как предмет становится предметом. Люси Суизин читает книгу по истории, и тут появляется с подносом ее служанка Грейс:
«Наяву ей понадобилось пять секунд всего, но в воображенье гораздо больше — чтоб отделить Грейс с голубым фарфором на подносе, от сопящего чудища, которое, пока отворялась дверь, как раз и норовило обрушить первобытное дерево на дымящийся зеленью подлесок. И конечно она вздрогнула, когда Грейс, стукнув подносом, сказала: „С добрым утречком, мэм“. „Га-га“, — добавила Грейс про себя, встретив этот раздвоенный взгляд, адресованный отчасти чудищу топей, отчасти же горничной в ситцевом платьице с беленьким фартучком.
— Как поют эти птицы! — бросила наобум миссис Суизин. Окно теперь было открыто; птицы еще как пели. Сосредоточенный дрозд скакал через лужок; в клюве у него извивалась розовая резинка. Этот дрозд снова повернул мысли миссис Суизин к реконструкции прошлого, и она умолкла…» [139]
Реальность (появление служанки) меняет фокус зрения Люси Суизин, погруженной в чтение книги. Вирджиния Вулф показывает внутренний механизм этого процесса, обнаруживая стадию раздвоенности восприятия Люси, еще не освободившегося от контекста книги и не успевшего сосредоточиться на событии реального мира. Фигура служанки Грейс поначалу видится Люси Суизин сквозь призму образов книги и лишь спустя какое-то мгновение обретает четкие очертания. Дрозд обращает мысли Люси Суизин к воспоминаниям. Происходит взаимопроникновение времени: прошлое окрашивает восприятие настоящего, а последнее, в свою очередь, меняет контекст прошлого. Читатель видит в становлении как сознание персонажа, так и воспринимаемую персонажем действительность.
Показывая процесс становления реальности, ее постоянные метаморфозы, Вирджиния Вулф обнажает бестелесную энергию, заставляющую мир развиваться: «А Джордж рылся в траве. Цветок сверкал из-под корней. Лопались пленка за пленкой. Он уже засиял нежно-желтым, тихий свет в тонкой бархотке; и свет этот залил Джорджу глазницы. И темнота налилась желтым светом, пропахшим землей и травой. А за цветком стоял вяз; вяз, трава и цветок — стали одно. Он копал, сидя на корточках, он выкопал цветок весь, целиком. Но тут — рёв, горячее сопенье, и серая грива, хлынув, скрыла цветок» [140]. Маленький Джордж, как мы видим, наделен способностью ощущать бестелесную энергию, превращение предметов друг в друга, перерастание цвета в запах, а запаха в звук. Граница между ним и окружающим миром преодолевается («этот цвет залил Джорджу глазницы»), субъективность героя растворяется. Он переживает становление предметами, которые воспринимает. И его впечатления — это не реакция внешнего наблюдателя: ведомые бестелесной энергией, они направлены из самого средоточия жизни.
Подобно Джорджу, Айза ощущает незримое движение, соединяющее между собой звуки, предметы, вещи, реплики: «Айза подняла голову. От слов разошлись круги, два безупречных круга, и они подхватили их, ее с Хейнзом, и понесли, как двух лебедей, вдоль потока. Но его белоснежная грудь была в грязных разводах ряски; а ее перепончатые лапки вязли, их затягивал муж, биржевой маклер. И она качнулась на своем табурете, и черные косы повисли, и тело стало как валик в этом линялом капоте» [141]. Ее тело также вовлечено в процесс становления. Но разница в том, что Айза, в отличие от Джорджа, выпадает из этого процесса. Воображение Джорджа легко разрывает ограниченность разума и устремляется к новому, неведомому, мысли же и эмоции Айзы направляются в знакомое русло стереотипных чувств и традиционных метафор.
Бестелесная энергия по-прежнему основная силовая линия, определяющая движение романа. Вирджиния Вулф разводит внешние проявления жизни, предметы, едва заметные жесты, реплики, составляющие диалоги, чтобы максимально подробно прописать невидимые импульсы, рождающие их. В такой ситуации даже молчание персонажа обретает голос:
«Зачем роскошной бабе, как эта Манреза, таскать за собой этого недоноска? — спрашивал себя Джайлз. И молчаньем внес свой вклад в разговор — то есть Додж тряхнул головой:
— Мне нравится этот портрет. — Больше ничего он не мог из себя выдавить.
— И вы совершенно правы, — сказал Бартоломью. — Один человек — ах, ну как его? — связанный с каким-то там учреждением, ну, который советы дает, бесплатно, потомкам, как мы, вырождающимся потомкам, так он сказал… сказал, — и Бартоломью умолк. Все смотрели на даму. А она смотрела куда-то, мимо них, ни на что не смотрела. И по зеленым просекам их вела в самую глушь тишины.
— Кажется, это сэр Джошуа? — миссис Манреза резко сломала молчанье.
— Нет-нет, — Додж сказал быстро, но шепотом.
И чего он боится? — спрашивала себя Айза. Бедняга. Стесняется собственных вкусов — а сама она мужа не боится? Не записывает стихи в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтоб Джайлз не догадался? Она посмотрела на Джайлза» [142].
Эти импульсы, источником которых часто являются персонажи, могут совпадать или вступать в противоборство. Они — основа внешнего, видимого, упрек познанию, мнящему себя объективным.
Описанные нами принципы организации материала в романе «Между актов» Вирджиния Вулф уже использовала в своих предыдущих текстах; и все же в ее поэтике происходят существенные сдвиги. Они, как мне представляется, вызваны стремлением Вирджинии Вулф показать угасание индивидуального сознания. Прежде всего бросается в глаза обилие в романе «Между актов» внешних проявлений человеческого «я». Сталкиваясь с атрофированной сюжетной энергией, читатель вправе ожидать большого количества развернутых внутренних монологов, с которыми он уже знаком по ранним текстам Вулф. Но в романе «Между актов» их не так много, и они главным образом короткие; зато здесь, по сравнению с предыдущими произведениями Вулф, гораздо больше диалогов, реплик, возгласов. Психологическое пространство сужается, уступая место внешнему слову, деиндивидуализированному знаку, который не выражает эмоции, а является лишь средством коммуникации. Внутреннее пространство индивидуальности сокращается: в своем последнем романе Вирджиния Вулф предоставляет ей гораздо меньше свободы, чем в своих ранних текстах.
Кроме того, приемы, призванные открыть изначальную спонтанность передаваемых проявлений человеческого «я», в романе «Между актов» несколько меняют свое содержание. Во многих случаях (особенно это касается таких персонажей, как Манреза, Джайлз, Бартоломью) внутреннее движение сознания оказывается предсказуемым. Эмоции редуцируются до идей; чувства, едва вспыхнув, замыкаются в убогих клише и штампах. Вспомним монолог Джайлза: «Разве еще сегодня, в поезде, он не прочитал в газете, что шестнадцать человек убиты, остальные захвачены в плен прямо там, за бухтой, на плоской земле, их отделяющей от континента? И вот вам, пожалуйста, — переоделся. А все из-за тети Люси — увидела его, ручкой машет — из-за нее он переоделся. Он на нее повесил свою досаду, как вешают пальто на крюк, бездумно, привычно. Тете Люси — ей-то что, дуре; вечно, с тех пор как после колледжа он выбрал свою лямку, она высказывает недоумение по поводу некоторых, жизнь кладущих на то, чтоб покупать-продавать — плуги? или это бисер? или акции? — дикарям, которым надо зачем-то — будто они и голые не хороши? — одеваться и жить, как живут англичане. Легкомысленный, злой даже взгляд на проблему, которая — у него же ни талантов особых не было, ни капитала, и он без памяти влюбился в свою жену — он ей кивнул через стол — терзает его уже десять лет. Будь у него выбор — тоже, небось, занялся бы сельским хозяйством. Но не было выбора. И так — одно цепляется за другое; все вместе на тебя давит, плющит; держит, как рыбу в воде. И он приехал на выходные, и переоделся к обеду» [143]. Или монолог его супруги Айзы: «„Мой муж, — Изабелла думала, пока они друг другу кивали через пестрый букет, — отец моих детей“. И — сработало, испытанное клише; гордость прихлынула к сердцу; нежность; и снова гордость — за себя, которую он избрал. И как это странно, после утрешнего стоянья у зеркала, после стрелы Амура, которой запустил в нее вчера вечером этот помещик, — и вдруг теперь ощутить, когда он вошел не хлыщом городским, спортсменом, — такое сильное чувство любви; и ненависти» [144]. Сознание персонажа реализует себя в готовых, взятых напрокат формулах. Даже воспоминания, мечты (как у Бартоломью) носят неиндивидуальный характер и выстраиваются в избитые литературные сюжеты.