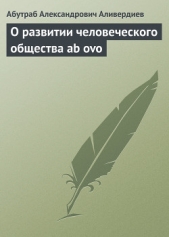Избранные труды. Теория и история культуры

Избранные труды. Теория и история культуры читать книгу онлайн
Книга посвящена проблемам истории и теории культуры. Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время с 1966— 2001 гг. Для настоящего издания прежде опубликованные статьи перерабатывались, многие статьи написаны специально для этой книги. Культура рассматривается как форма общественного сознания, отражающая характер и структуру общества, состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и надындивидуальные нормы и представления, основанные на обобщении этой практики и регулирующие поведение индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневно-бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности— привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту. Достоинство книги в том, что теоретические обобщения опираются на конкретный материал, возникают из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теоретически, в области философии это двуединство обозначилось уже в самых ранних текстах. Наиболее показательные были названы выше; вернемся к ним. «Два начала стоят перед глазами, требуя правильного логического сочетания в одном цельном мировоззрении: начало индивидуальное, временное, земное, и начало безличное, бесформенное, божественное… Эти два начала приходят в соприкосновение в каждом предмете, но при их полном метафизическом различии между собой, союз Аполлона с Дионисом может иметь только трагический характер» (Аким Волынский, 1896). «Аполлинийские — оформляющие, скрепляющие и центростремительные — элементы личных предположений и влияний внешних были необходимы гению Ницше как грани, чтобы очертить беспредельность разрешающей и центробежной стихии Дионисовой. Но двойственность его даров, или — как сказал бы он сам — "добродетелей", должна была привести их к взаимной распре и обусловить собой его роковой внутренний разлад… Ученый Ницше, "Ницше-филолог", остается искателем "познаний" и не перестает углубляться в творения греческих умозрителей и французских моралистов. Он должен был бы пребыть с Трагедией и Музыкой. Но из дикого рая его бога зовет его в чуждый, недионисийский мир его другая душа, — не душа оргиаста и всечеловека, но душа, влюбленная в законченную ясность прекрасных граней, в гордое совершенство воплощения заключенной в себе частной идеи» (Вячеслав Иванов, 1904).
«Аполлоновские» импульсы в культуре Серебряного века реализовались в так называемом неоклассицизме. То было широкое течение, охватывавшее поэзию (прежде всего, в творчестве Брюсова, об акмеизме речь впереди), музыку (анализ материала,
864
сюда относящегося, см. в кн.: Левая Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991), культурно-историческую топографию (возрождение культа Петербурга как «города русской классики» — А.Н. Бенуа, Г.К. Лукомский, М.В. Добужинский). Можно говорить и о возрождении интереса к Италии как к стране, наиболее полно сохранившей и антично-римские истоки европейской культуры, и следы ее преемственности по отношению к ним (И.М. Гревс, П.П. Муратов, В.Ф. Эрн, М.А. Кузьмин, О.Э. Мандельштам), но наиболее полно и обильно отразились знаковые смыслы культурных процессов как всегда в архитектуре.
О чем конкретно идет речь? В Москве — особняк Миндовско-го на углу Мертвого и Староконюшенного переулков, особняк Второва за Спасопесковским сквером, особняк Арацкого на Первой Мещанской, в Петербурге - особняки Бехтерева и Чаева на Каменном острове, в Нижнем Новгороде — особняк Каменских на Волжской набережной, в сельской местности — поместье Гагариных на Псковщине, а также многие десятки зданий, им подобные, рассеянные по столичным и губернским городам России. Что объединяет эти довольно разнородные здания? Прежде всего то обстоятельство, что культурно-исторический образ преобладает в них над точностью историко-архитектурной стилизации. В каждом случае архитектор не столько заботился о сохранении ранне-или позднеклассицистических черт, о воспроизведении черт, характерных для ампира, сколько о создании синтетического образа среды обитания просвещенного русского барства. Ордерные элементы призваны были вызвать в культурной памяти «русскую античность» как фон для «золотого века» русской культуры — «дней александровых прекрасного начала», лицейских садов, где «безмятежно расцветал» Пушкин, для анакреонтики Державина и Батюшкова. Свободное, творческое, лишенное археологического педантизма обращение с этими элементами утверждало некоторый элегический классицизм, «антично-русскую» дымку как устойчивую тональность русской культуры, ее, как представлялось, лучших времен.
Элегический классицизм — ностальгия по «золотому веку» с лежащими на нем античными отсветами, культ Петербурга, в котором были как бы сосредоточены эти отсветы, и становились— чем ближе к перевороту 1917 г. тем яснее - настроением интеллигенции в последнюю, завершающую фазу и Серебряного века, и «русской античности» в целом. Анна Ахматова написала о зиме 1913— 1914 гг., последней зиме мирного времени:
865
Белее сводов Смольного собора,
Таинственней, чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что вскоре
В тоске предельной поглядим назад.
Ощутив трагизм надвигавшихся лет, интеллигенция Серебряного века с нежданной ясностью почувствовала, что «глядеть назад» стоило едва ли не в первую очередь на те образы русской культуры, где русское выступало как энтелехия мирового, а пластическим воплощением этой энтелехии оказывались слившие эти два начала воедино образы «русской античности». В первой книге Осипа Мандельштама «Камень» (1915) с античностью вообще и с Древним Римом в частности связано 14% стихотворений, во второй, «Tristia» (1922) - 40%. Многочисленные исследования, которые в последнее время были проведены по теме «Мандельштам и античность» (некоторые из них собраны в книге того же названия: Мандельштам и античность. М., 1995; важна также работа: Добрицын АЛ. «Нашедший подкову» // Philologica: Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. М.; Лондон, 1994, Т. 1. № 1—2. С. 115—131), показали, что автор (и читатель) обеих только что названных книг живет в едином культурном пространстве, где русская национальная традиция постоянно опосредуется традицией античной, которая так долго оплодотворяла культуру Европы, живет в противоречивом и неразрывном единстве с ними:
И с укрепленного архангелами вала Я город озирал на чудной высоте, В стенах Акрополя печаль меня снедала По русском имени и русской красоте.
Здесь в принципе нельзя сказать, о каком «городе» идет речь, — о Москве, как явствовало из первой строфы цитируемого стихотворения («…И в дугах каменных Успенского собора»), или об Афинах, как следует из третьей строки приведенной строфы. Противоположность оказывается «снятой». Точно такое же положение — в стихотворениях «На площадь выбежав, свободен…» или «С веселым ржанием пасутся табуны…». В последнем стихотворении автор прогуливается в деревне неподалеку от Петербурга — «Капитолия и Форума вдали», но именно здесь он ясно ощущает, что «в Риме родился, и он ко мне вернулся». За этим признанием следует скрытая цитата из Пушкина («Печаль моя
866
светла»), после нее стоит двоеточие, и слова «Я в Риме родился» представляют собой, таким образом, как бы расшифровку слов Пушкина — он тоже втягивается в антично-римский регистр культурного самоощущения.
Александр Блок всю жизнь не любил классический Петербург, селился на его тогдашних демократических окраинах, а о Фальконетовом памятнике Петру писал: «Там на скале веселый царь взмахнул зловонное кадило». Когда же, по словам Ахматовой, «оттого, что по всем дорогам, оттого, что ко всем порогам приближалась медленно тень», отношение его к этой проблеме изменилось. На протяжении 1920 г. он не был в состоянии создать ни одного стихотворения, но в феврале 1921 г. откликнулся на годовщину смерти Пушкина строфами «Пушкинского дома», ставшего последним его произведением. Оно заканчивается памятным четверостишием, обращенным к Пушкинскому дому, который помещался в те годы в особняке на правом, северном, берегу Невы подле университета:
Вот зачем, в часы заката, Уходя в ночную тьму, С белой площади сената Тихо кланяюсь ему.
Надо представить себе реально, чему именно, «уходя в ночную тьму», счел нужным поклониться Блок «с белой площади сената». Ведь, как явствует из контекста, он стоит возле того самого Фальконетова памятника и перед ним расстилается на противоположном берегу Невы один из самых значительных, самых пал-ладианских, римски-классических ансамблей державно-императорского Санкт-Петербурга. Справа, над зданиями Биржи, поднимались барабан и купол таможни (1829—1832 гг., Лукини, Стасов[?]), чуть ближе— сам «храм Плутоса», здание Биржи (1805—1810 гг., Томон, Захаров). Как говорится в сегодняшнем путеводителе, «оно решено по типу античного храма, на высоком гранитном подиуме, с окружающей центральный объем дорической колоннадой; на подиум ведут широкие торжественные лестницы и пологие пандусы». Перед Биржей — Ростральные колонны. Над массивными фигурами, символически изображающими великие русские реки — Волгу, Днепр, Волхов и Неву, поднимается сам ствол колонны, пронизанный носами кораблей. Создатель ростральной колонны как особого архитектурно-мемориального типа – римский консул Дуиллий, создатель символических