Нации и национализм после 1780 года
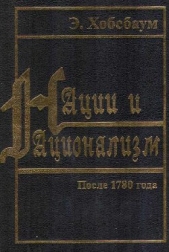
Нации и национализм после 1780 года читать книгу онлайн
Эрик Хобсбаум — один из самых известных историков, культурологов и политических мыслителей наших дней. Его работы стали вехой в осмыслении современного мира. «Нации и национализм после 1780 г.» — это, быть может, самое актуальное исследование Э. Хобсбаума для российского читателя конца 90-х годов XX века. Взвешенные и тщательно обоснованные аргументы британского ученого дают исчерпывающую картину формирования как самого понятия «нация», так и процесса образования наций и государств.
На русский язык творчество Э. Хобсбаума переводится впервые.
http://fb2.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ибо вполне очевидно, что протонационализм сам по себе не способен создавать национальности, нации, а тем более государства. Национальных движений (связанных или не связанных с определенным государством) гораздо меньше, нежели человеческих групп, способных, согласно нынешним критериям «нации», подобные движения создать; и их, бесспорно, меньше, чем тех коллективов, которые обладают чувством общности, по природе своей едва ли отличимым от протонационального самосознания. Сказанному не противоречит тот факт, что серьезные притязания на статус независимого государства могут выдвигать такие малочисленные группы, как 70 000 человек, борющихся за независимость Западной Сахары, или 120 000 человек, уже фактически объявивших независимость турецкой части Кипра (если даже отвлечься от вопроса о самоопределении 1800 обитателей Фолклендских, или Мальвинских островов). Следует согласиться с Гельнером: повсеместное, на первый взгляд, преобладание национализма в современной идеологии есть своего рода оптическая иллюзия. Если бы протонационализма самого по себе было достаточно для образования нации, уже давно возникли бы серьезные национальные движения мапучей или аймара. Если же подобные движения появятся завтра, то это будет означать, что в действие вступили иные факторы.
Во-вторых, пусть даже протонациональная основа желательна и, может быть, необходима для серьезного национального движения, ставящего своей целью образование самостоятельного государства (хотя сама по себе она явно недостаточна для создания такого движения), она, эта основа, не является необходимой для формирования национального патриотизма и чувства лояльности, коль скоро подобное государство уже существует. Не раз отмечалось, что нации чаще всего представляют собой следствие образования государства, а не его причину. США и Австралия — характерные примеры наций-государств, все специфические национальные черты и признаки которых сформировались после второй половины XVIII века, а до основания соответствующих государств попросту не могли существовать. Едва ли, впрочем, стоит напоминать, что самого по себе основания государства еще недостаточно для создания нации.
И наконец, следует еще раз призвать к осторожности в выводах. Мы слишком мало знаем о том, что происходило прежде — и, если угодно, что происходит сейчас в умах и душах большинства относительно «бессловесных» мужчин и женщин, чтобы сколько-нибудь уверенно рассуждать об их мыслях и чувствах по поводу национальностей и национальных государств, притязающих на их лояльность. А потому истинная связь между протонациональным самосознанием и последующим национальным или государственным патриотизмом во многих случаях неизбежно останется для нас непонятной. Мы знаем, что имел в виду Нельсон, когда накануне Трафальгарского сражения дал своему флоту сигнал: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг», — однако нам неизвестно, какие мысли посещали в тот день матросов Нельсона (хотя было бы неразумно сомневаться в том, что некоторые из них можно определить как «патриотические»). Мы знаем, каким образом национальные партии и движения интерпретируют действия тех представителей нации, которые оказывают им поддержку, — однако нам неизвестно, что конкретно желают получить сами эти «покупатели», приобретая набор весьма разнородных товаров, предложенных им в одной упаковке торговцами от национальной политики. Иногда мы способны довольно точно определить, какие элементы из этой смеси им не нужны (например, в случае с ирландским народом — повсеместное употребление гаэльского языка), но подобные «молчаливые референдумы» по отдельным вопросам редко бывают возможны на практике. Мы постоянно рискуем впасть в ошибку, принявшись ставить людям оценки за те предметы, которые они не изучали, и за тот экзамен, который они вовсе не собирались сдавать. Вообразим, к примеру, что готовность умереть за родину мы примем за доказательство патриотизма, — само по себе это кажется довольно разумным, а националисты и национальные правительства всегда были склонны понимать дело именно так, что с их стороны вполне естественно. В таком случае нам следует думать, что солдаты Вильгельма II и Гитлера — по всей видимости, более восприимчивые к национальным аргументам — сражались более храбро, чем гессенцы XVIII века, проданные за границу в качестве наемников собственным государем и национальной мотивации явно не имевшие. Но так ли это было на самом деле? И действительно ли они дрались лучше, чем, скажем, турецкие солдаты эпохи Первой мировой войны, которых едва ли можно было счесть «патриотами своей нации», или гуркские стрелки, которых никакой патриотизм — ни британский, ни непальский — наверняка не воодушевлял? Эти довольно-таки абсурдные вопросы мы ставим не для того, чтобы добиться ответа или стимулировать исследования, но чтобы указать на густой туман, окружающий проблему национального сознания простых людей, и прежде всего в ту эпоху, когда современный национализм еще не успел превратиться в массовую политическую силу. А для большинства наций (даже в Западной Европе) процесс этот завершился не ранее второй половины XIX века. Тогда, по крайней мере, прояснился сам выбор, — хотя, как мы убедимся в дальнейшем, отнюдь не его содержание.
Глава 3
Позиция правительств
А теперь мы оставим простых обывателей и перенесемся на те вершины, с которых люди, руководившие обществами и государствами после Французской революции, смотрели на проблемы наций и национальностей.
Государство современного типа, получившее свою систематическую форму в эпоху французских революций (хотя во многих отношениях предвосхищенное развитием европейских монархий XVI–XVII вв.), в целом ряде аспектов представляло собой исторически новый феномен. С точки зрения географии, такого рода государство определялось как особая территория (желательно сплошная и непрерывная), все жители которой подчинялись единой государственной власти; причем от других подобных территорий ее отделяли ясные и четкие границы. В политическом отношении государство управляло этим населением прямо и непосредственно, не прибегая к промежуточным механизмам в виде особой касты правителей или автономных корпораций. Оно стремилось, насколько это вообще возможно, подчинить всю свою территорию единым законам и административным установлениям, хотя после Французской революции уже не пыталось навязать населению общую религиозную или светскую Глава III. Позиция правительств 129
идеологию. Со временем государство обнаружило, что ему приходится все в большей степени учитывать мнения своих подданных, или граждан, поскольку его политическое устройство предоставляло им определенную возможность высказаться (обычно — через разного рода выборных представителей), и/или поскольку государство нуждалось в их поддержке, согласии или практической активности иного рода, например, в качестве налогоплательщиков или потенциальных призывников. Короче говоря, государство управляло территориально определенным «народом», выступая в роли высшего «национального» органа на данной территории, чьи представители постепенно получали реальную возможность доходить до самого скромного обитателя самой захолустной деревеньки.
В течение XIX века подобное вмешательство стало в «современных» государствах столь повсеместным и обычным делом, что лишь поселившись в каком-нибудь медвежьем углу, семья могла надеяться на то, что кто-то из ее членов сумеет избежать постоянных контактов с национальным государством и его агентами —
например, через почтальона, полицейского или жандарма, а впоследствии и через школьного учителя; через служащих железных дорог (там, где последние находились в государственной собственности), не говоря уже об армейских гарнизонах и военных оркестрах, игру которых можно было расслышать и с более далекого расстояния. Периодические переписи населения (правда, ставшие всеобщими не ранее середины XIX века), теоретически обязательное посещение начальной школы и — там, где это было возможно, — всеобщая воинская повинность позволяли государству осуществлять все более полный и строгий учет своих подданных и граждан. Личные документы и система регистрации, введенные в хорошо управляемых государствах с развитой бюрократией, ставили

























