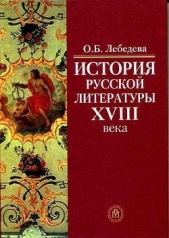Санскрит во льдах, или возвращение из Офира

Санскрит во льдах, или возвращение из Офира читать книгу онлайн
В качестве литературного жанра утопия существует едва ли не столько же, сколько сама история. Поэтому, оставаясь специфическим жанром художественного творчества, она вместе с тем выражает устойчивые представления сознания.
В книге литературная утопия рассматривается как явление отечественной беллетристики. Художественная топология позволяет проникнуть в те слои представления человека о мире, которые непроницаемы для иных аналитических средств. Основной предмет анализа — изображение русской литературой несуществующего места, уто — поса, проблема бытия рассматривается словно «с изнанки». Автор исследует некоторые черты национального воображения, сопоставляя их с аналогичными чертами западноевропейских и восточных (например, арабских, китайских) утопий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не замечено, что царь, богатые, бедные — основные черты ненавистного существования — остаются. Не это ли утопизм в точном значении понятия — греза о несбыточном? Желание того, чего, по сути, не может быть? Несбыточность, кстати говоря, невысказанно допускается, ибо замена одного царя другим походит на пародию, остаток старого ритуала (король шутов, или бедных), смысл которого в том и состоял, чтобы сохранить существующие отношения, имитируя радикальные перемены, но не производя их на самом деле. «Царь бедных» в «Андрее Юродивом» — разновидность типологической имитации, якобы сбывшейся утопии, словно народное сознание догадывается: осуществись утопия, наступит конец света. Такая интерпретация вероятна, если признать, что «конец света» как результат сбывшейся утопии означает перемену самого человеческого типа. Тогда нынешний порядок («этот свет»), несомненно, изменится.
Некоторое подтверждение тому, что утопические представления благой жизни воображаются народным сознанием идеальными, нереализуемыми в каждодневном обиходе, дает один из русских духовных стихов:
Деление ясно: среди людей нет истинной жизни, она — условие небесное. На земле — тяготы, лихие тяжбы, «стал народ неправильный». За правдой отправляйся на небо, здесь об этом и думать нечего: земля — место неправое, и любой утопический проект обречен. Косвенное свидетельство содержит один из многих вариантов духовного стиха «Страшный суд»: по звуку архангельской трубы мертвые встают для последнего ответа, и грешники умоляют Христа о прощении — мол, не знали не ведали, что творили, будь милостив. А он им: «Как же не знали? А на что вам книги?» И приговаривает грешников к мукам, самая же тяжкая в том, что, хотя мукам наступает конец, прощения грешники не получают. Эта мысль — своего рода представление о невозможности утопии. Как раз на фоне такого фатального исхода может возникнуть инстинктивный порыв «А вдруг?». А вдруг все‑таки сбудется? Чем черт не шутит?
Утопия как шутка черта, историческая проделка нечистого (Достоевский в «Братьях Карамазовых» почувствовал этот дух бесовщины. В разговоре с Иваном черт жалуется: «Я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло» [8].) — к этому, предположительно, могли склонить — ся люди, отчаявшиеся в иных вариантах, обессилевшие от ощущения безысходности. «Двум смертям не бывать, одной не миновать» — вот какие побуждения отыскиваются у основания порыва, сопровождавшего безумную попытку реализовать утопию в России после 1917 г., попытку, заранее неудачную, если придерживаться жанровой характеристики утопизма в русском исполнении.
Правда, в долитературной утопии есть оттенки, не совпадающие с типологическими (в границах жанра) решениями. В одной из легенд о возвращении сына Петра I, царевича Алексея, благоволившего якобы к простонародью, говорится о том, что произойдет, когда царевич станет царем:
«Как это‑де сделается, и боярам‑де житья не будет, а которые и будут, и те хуже мужика находятся, и будут их судить с протазанами, воткня в ногу..» [9].
Все та же известная «перемена знаков»: те, кого мучили, сами становятся мучителями. Суд же «с протазанами» сохранится до нынешнего времени — триста лет, и никаких перемен. Не хватает воображения ли, ума, еще чего‑то, чтобы представить, что все могут жить. Нет, кто‑то непременно должен мучиться, бедствовать, страдать. Русская утопия изображает несуществующее место устроенным так же, как устроено неблагое, реальное, где хорошо только своим. Утопия мыслится как бы «для своих», мир делится на «наших» и «не наших».
Когда поздняя утопия примет некий всемирный характер (интернационал), типология «наши — не наши» видоизменится: все — наши, но при условии, что все живут «по — нашему», и прежнее деление мира сохраняется, в сущности, нетронутым. «Москва — Третий Рим», заповедник православия, единственное во вселенной место христианской истины и пр. Это убеждение (и политическое поведение властей внутри и вне страны, основанное на таком убеждении) коренилось в очень примитивном (племенном, вотчинном) взгляде: истинно только мое. Спустя много лет, как оформилась эта идеология (русское равно православному, равно истинному), она воспроизвела себя в ленинизме — системе, содержащей типологический набор давно знакомых суждений, хотя использован совсем другой материал. 1. Россия— особая страна (слабое звено в цепи империализма), поэтому вопреки обще — му историческому ходу (читай: вопреки Западу, Марксу) здесь произойдет то, чего не может быть нигде (читай: пролетарская революция и построение коммунистического общества). 2. Поэтому Россия возьмет на себя всемирное дело коммунизма и распространит эту абсолютную истину по всему свету. 3. Ибо остальной мир погряз во лжи (так смотрели на Запад в XV, XVII, XIX вв.; так смотрел на капитализм Ленин).
Не приходило в голову, что истина полилогична, а не монологична; что и на Западе живут люди. Однако если там ложь, то и люди ложны, т. е. и не люди, люди только здесь, но и здесь люди немногого стоят, ибо истина дороже. Вот почему Ленину (Чернышевскому, Пугачеву) не было жалко людей: чего жалеть, истина с тобой, истина — ты.
Вышеупомянутый образ «царя нищих», своего царя воплотился в такой характерной фигуре народного утопического сознания, как «царь — освободитель». Он восходит к архаическим образам «освободителя», встречающимся в мифологии едва ли не всех народов. В до — литературных русских утопиях освободитель — частенько самозванец, так сказать, русская вариация всемирного мотива. Если верно, что реализация утопии — дело нечистой силы, то самозванство — способ перехитрить ее, ибо одной из ее проделок является прельщение утопией. «Законно», «царски» блаженной страны не достичь, поэтому (не осознанные и целенаправленные действия, а интуитивные порывы, принимающие вид не контролируемых волевыми расчетами образов) появляется «царь нищих», «самозванец», возглавляющий поход к несуществующему месту. Будь это действия настоящего царя, утопия обернулась бы мороком, пустотой, как и бывает, когда за дело принимается бес, но тут беса — творца утопий словно хотят «перебесить» — перехитрить, обмануть: как смерть попираема смертью, так в этом случае бес мог быть обманут подсовыванием ему бесовского же проекта, который вследствие этого терял нечистые свойства, и благое место на самом деле становилось таковым. Действовал принцип отрицательной магии: ни пуха, ни пера — к черту. Самозванчество — некая игра в прятки с нечистой силой, скрывание истинного имени — звания, которое будет объявлено «после победы».
Роль беса, обманывающего самого беса, брал на себя в народных (долитературных) русских утопиях самозванец. Некоторые позднейшие самозванцы в нашей литературе несут кое — какие черты их прежней бесовской природы: Пугачев в «Капитанской дочке» (черная борода и сверкающие глаза — вот что запомнилось Гриневу); Хлестаков в «Ревизоре», Чичиков в «Мертвых душах», Шариков в «Собачьем сердце», Остап Бендер в «Двенадцати стульях». Не случайное дело, эти персонажи освещены светом «царского» жребия: Пугачев объя — вил себя государем Петром III; Хлестаков похваляется близостью к императорскому окружению; в помыслах Чичикова носится образ такой же независимой и свободной жизни, какую ведет царь (его ощущения в доме Костанжогло во 2–м томе романа); при некотором воображении Шарикова легко представить на высших государственных постах; наконец, Остап Бендер подает идею монархического заговора.