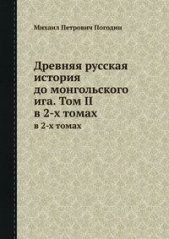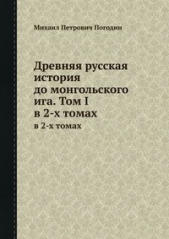Паралогии

Паралогии читать книгу онлайн
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Другими проявлениями описываемого сдвига можно считать:
— Фильмы и тексты, апеллирующие к парадно-имперской эстетике русского монархизма, остраненной посредством стилизации, но тем самым и обновленной и «отреставрированной»: показательны фильмы «Сибирский цирюльник» (1998) Никиты Михалкова, «Романовы — венценосная семья» (2000) Глеба Панфилова и фильм Филиппа Янковского «Статский советник» (2005) по роману Б. Акунина (на мой взгляд, искажающий логику как романа, так и всего творчества писателя, — подробнее об этом шла речь в предыдущей главе).
— И, наконец, фильмы, апеллирующие не только к советским ценностям, но и к советским сюжетам и использующие узнаваемые элементы соцреалистической эстетики: «Ворошиловский стрелок» (1999) и «Благословите женщину» (2003) Станислава Говорухина, «Ехали два шофера» (2001) Александра Котта, «Звезда» (2002) Николая Лебедева (по повести Эммануила Казакевича). К этой же группе произведений относится и мюзикл «Норд-Ост» (2001) Георгия Васильева и Алексея Иващенко по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана».
Особое место в этом ряду занимают телесериалы по литературной классике советского периода и/или сюжетно связанные с советской историей: «Граница. Таежный роман» (2000) Александра Митты, «Дети Арбата» (2004) Андрея Эшпая (по роману Анатолия Рыбакова), «Московская сага» (2004) Дмитрия Барщевского (по одноименной романной трилогии Василия Аксенова), «Последний бой майора Пугачева» (2005) В. Фатьянова (сценарий Эдуарда Володарского по мотивам «Колымских рассказов» Шаламова), «Курсанты» (2004) Андрея Кавуна, «В круге первом» (2005) Глеба Панфилова, «Мастер и Маргарита» (2005) Владимира Бортко и др.
Несмотря на то что в основе многих этих фильмов и сериалов (особенно сериалов) лежат произведения разной степени оппозиционности по отношению к советской идеологии, — тем не менее мюзикл «Норд-Ост» и сериал «Мастер и Маргарита», новая экранизация «Звезды» и одна из первых экранизаций Шаламова производят сходный эффект. Борис Дубин определяет его как производство «ностальгического фантазма» — создание «фикции советского как единого целого», «примирение с советским». Он видит в нем «одну из ведущих характеристик путинского периода в коллективной жизни России» [1103].
Привлечение новых, в первую очередь — постмодернистских форм позволяет не только вписать домодерные и советские мифологии в постсоветский культурный контекст, но и наоборот, вместить постсоветский опыт в «разношенную» и уютную советскую «рамку»: «Сложилась признанная „всеми“ и поддерживаемая, транслируемая и воспроизводимая самыми современными массовыми технологиями форма наиболее общих представлений российского социума о себе, воображаемых „мы“» [1104]. Симулятивный характер этого «мы» в постсоветском обществе очевиден — и потому может быть осуществлен только посредством постмодерных манипуляций дискурсами и символами. И хотя постмодернистские приемы в новых сериалах явно редуцируются [1105], — на мой взгляд, происходит это потому, что в них «фантазм советского» уже нормализован — не только самим фактом ежедневного присутствия советского прошлого на телеэкране [1106], но и сложившимся и узнаваемым набором эстетических приемов репрезентации «советского мифа».
Показательно, например, что сцена из сериала «В круге первом», которая, видимо, должна была стать эпатирующей — спорящие герои из «шарашки» конца 1940-х вдруг попадают на сегодняшнюю московскую улицу, — никак не отрефлектирована в самом фильме: шока нет, потому что герои обитают не в истории, а в сериальной гиперреальности — «истории», перетекающей из сериала в сериал [1107].
Разумеется, каждый из названных фильмов и текстов обладает и иными, индивидуальными особенностями. Однако выделенные черты объединяют эти достаточно далекие феномены. Важно, что все эти фильмы, книги и сериалы обращены главным образом не к ностальгирующим по советской власти старикам, а к людям среднего и младшего поколения, у которых непосредственно советского социального опыта либо нет, либо он овеян дымкой детских и юношеских воспоминаний. Этим большинством соцреалистическая — а вернее, стилизованно-советская — топика воспринимается, во-первых, как контекст родной, а потому и привлекательной, массовой культуры (то есть как своего рода эстетическая оппозиция западному масскульту); во-вторых, как преимущественно позитивный культурный опыт, противопоставленный постсоветской «чернухе». Утопический аспект соцреализма и выработанного в советской культуре типа репрезентации в целом приобретает в этом случае отчетливо терапевтическую функцию [1108] — ностальгический фантазм становится антитезой повседневному социальному опыту.
Повторяемость соцреалистических фильмов, песен и других массовых жанров в телепрограммах создает впечатление устойчивой традиции — культурного канона, к которому хочется нерефлективно «прислониться». Нечто аналогичное Владимир Паперный отмечал в постсоветской архитектуре: «видимость» сталинского ампира в качестве гарантии качества и «солидности» новодела (см. подробнее в гл. 13) [1109].
Наталья Иванова (и, кажется, не она одна) считает, что в утверждении этого стилевого гибрида виноваты стеб и постмодернистская эстетика в целом:
Постсоветская интеллигенция («интеллектуалы») стебались по поводу и при помощи знаков советской культуры, фактически погрузив страну в стилевой гибрид эстетики советского прошлого и настоящего, — ностальящее. Этот стилевой гибрид или, лучше сказать, стилевой кентавр оказался на удивление жизнеспособным, но год за годом, месяц за месяцем из него выпаривался стеб, — оставалась радость беспримесного погружения в коллективный советский стиль, как бы лишенный идеологии. Как бы с вынутым жалом… Но со всеми внешними, дорогими слуху и глазу, атрибутами [1110].
Хотя я совсем не уверен в «виновности» именно стеба (доводы «за» и «против» точки зрения, которую представляет Иванова, приведены в гл. 12 этой книги), и мне все же кажется, что дело скорее в общей социальной, позиции постсоветских интеллектуалов (или интеллигенции), — но в одном выводе я согласен с критиком: изменение качества иронии, а вернее, ее радикальная редукция действительно становится важнейшим симптомом нового стилевого гибрида. Ирония, иногда прорывающаяся в перечисленных выше фильмах и текстах по отношению к советским мифологемам, во всяком случае, никогда не агрессивна (как агрессивна она у раннего Сорокина или, например, в романе С. Ануфриева и П. Пепперштейна «Мифогенная любовь каст»). Нет, она мягка и сообщительна: ирония просто маркирует постмодернистские «кавычки» вокруг заимствований из советского или, уже, соцреалистического дискурса — и нужна главным образом для того, чтобы смягчить стилистические перепады — например, между современной поп-музыкой и советским репертуаром в «Старых песнях о главном» или условностями голливудского «экшн» и советскими риториками репрезентации врагов и героя в фильме «Брат 2».
Постмодернизм + соцреализм?
Трансформация соцреалистических моделей и мифов в идеологически нейтральные, однако чрезвычайно популярные формы постсоветской массовой культуры показательна, несомненно, не только для постсоветской культуры. Однако «остальгия», распространенная ныне в Восточной Германии, «югоностальгия» в странах бывшей Югославии или же мода на стиль 1950-х годов в США несопоставимы по размаху с симулякрами «Большого Стиля», создаваемыми на пространстве бывшего СССР (хотя глава и началась с украинского примера, далее я сосредоточусь на российских феноменах). Достаточно вспомнить только празднования юбилеев Победы в 2000 и в 2005 годах, сопровождавшиеся не только масштабной реанимацией советской героики и риторики, но и нагнетанием традиционной советской политической истерии, направленной против «наследников фашизма» (образ врага), которыми в обоих случаях «назначались» страны Прибалтики.