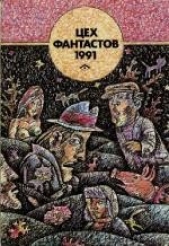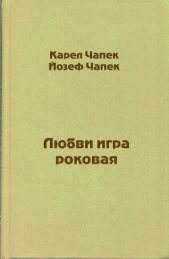Лекции о драме

Лекции о драме читать книгу онлайн
Лекции «Трагедия трагедии» и «Ремесло драматурга» были написаны для курса драматургического мастерства, который Набоков читал в Стэнфорде летом 1941 года.
Две представленных здесь лекции выбраны в качестве приложения к пьесам Набокова по той причине, что они в сжатом виде содержат многие из основных принципов, которыми он руководствовался при сочинении, чтении и постановке пьес.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подобные контрасты странным образом напоминают финал «Кармен» (за сценой Эскамильо под восторженные крики зрителей убивает быка; на сцене, представляющей собой пустую площадь рядом с ареной, происходит последний, роковой диалог между Кармен и доном Хозе). Хотя «Кармен» была одной из немногих опер, которые отец любил, я не рискну предположить, что параллель эта является преднамеренной. Тем не менее общность драматического накала, который этот прием создает в обоих произведениях, весьма примечательна, а кроме того, невозможно в очередной раз не задуматься над тем, как мы воспринимаем, или как нам предлагают воспринимать, разные уровни иллюзии и реальности на новом их пересечении. То, что предположительно происходит или существует за пределами сцены, является, в простейшем понимании, такой же иллюзией, как то, что разыгрывается на подмостках. Нам прекрасно известно, что перед нами декорации, а не настоящая комната или настоящая площадь, так же как мы прекрасно знаем, что за бутафорской площадью нет никакого боя быков, никакого леса, идущего на Макбета, никакой амбразуры в стенах замка Сан-Анджело, из которой выбрасывается Тоска. Однако существует еще и промежуточная сценическая реальность: должен ли зритель считать вещи и события за сценой столь же реальными, как те, что представлены на ней? Разумеется, подложный мир за сценой может быть разрушен вторжением неприкрытого бутафорства, например, когда мы видим, как корпулентная Флория Тоска подскакивает на слишком пружинистом матрасе, положенном сразу за стеной замка. Однако подложность, или как минимум сомнительность того, что происходит вне сцены, по сравнению с тем, что происходит на ней, может быть и вполне преднамеренной. Возникает подозрение, что Набоков, намекая нам на грандиозные события, происходящие где-то в другом месте, нарочно приоткрывает свою талью ровно настолько, чтобы зритель мог усомниться в подлинности того, что вынесено за сцену: лекционного зала, съемочной площадки, подвигов рыцаря плаща и шпаги Кузнецова, душегубства Барбашина, похожих на страшный сон воспоминаний де Мэриваля. Зачем это нужно? Цель — и результат — применения подобного приема в этих и других произведениях Набокова сводится к тому, чтобы внимание зрителя или читателя отскочило рикошетом от сомнительной реальности за сценой, вернулось обратно и с новой силой сосредоточилось на зримом микрокосме пьесы, который приобретает в результате новую, до тех пор не существовавшую рельефность.
Переложение любого драматического произведения для кинематографа приводит к размыванию контуров. Кинематограф способен перенести нас из заново отстроенного театра «Глобус» в гущу реалистической битвы при Агинкуре или из окрестностей Стокгольмской оперы в сюрреалистическую обстановку испытаний Тамино в кинематографическом чистилище за пределами сцены как таковой. Хотя Набоков признавал, что некоторым его произведениям свойственна «кинематографичность» {134}, я не стал бы включать киносценарий «Лолиты» в список его драматических произведений; скорее, сценарий мог бы стать темой отдельного очерка, озаглавленного «Набоков и кинематограф».
В непосредственной связи с темой «странствий», от которой отталкиваются наши рассуждения, находится тема нищего странника (вымышленного родственника русского эмигранта), скитающегося с места на место, с одной работы на другую. Де Мэриваль в «Дедушке» описывает, где он блуждал и чем занимался после того, как избежал эшафота:
...я в Лондоне угрюмом и сыром преподавал науку поединка. В России жил, играл на скрипке в доме у варвара роскошного... Затем по Турции, по Греции скитался. В Италии прекрасной голодал. Видов видал немало. Был матросом, был поваром, цирюльником, портным — и попросту — бродягой...
Ему вторит Флэминг в «Полюсе»:
Юнгой был, водолазом; метал гарпун в неслыханных морях. О, эти годы плаваний, скитаний, томлений!..
Федор Федорович в «Человеке из СССР» отдает дань той же теме: «Я уже третий год наслаждаюсь самыми низкими профессиями,— даром что капитан артиллерии». К капитану артиллерии мы вернемся позже. Сейчас же, дабы читатель не понял меня превратно, хочу подчеркнуть, что я привожу эти примеры отнюдь не для того, чтобы продемонстрировать некий сомнительный символизм или сублимацию доли изгнанника. Я лишь хочу показать, каким именно образом этот мотив проявляется в творчестве отца — причем зачаток его отчетливо прослеживается в одном из аспектов отцовского эмигрантского существования, в новых и неожиданных комбинациях.
Второй так и не воплощенной мечтой Набокова была мечта о лепидоптерологической экспедиции в какие-нибудь экзотические, неизведанные земли. Отец мечтал о Кавказе, об Эльбрусе, а в более поздние годы все чаще говорил об Амазонке. Опять же самое поразительное здесь — не просто ассоциативная связь идей и не романтизация невоплощенной фантазии, а то, какой поэтический узор рождается из этой мечты, складываясь в «Terra incognita», энтомологические странствия Годунова-Чердынцева-старшего в «Даре», космические полеты далекого будущего в «Лансе» и маленькую трагедию «Полюса».
«Полюс» представляет собой намеренно-вольное переложение дневников Скотта. Набоков не ставил цели сделать точный репортаж, скорее, путем перекомпоновки элементов, создать напряженную драму человеческих отношений. Даже эпиграф и его атрибуция:
...Не was a very gallant gentleman {135}.
намеренно неточны. Скотт этих слов не говорил. Их авторство принадлежит членам поисковой группы 1912 года под руководством Э. Л. Аткинсона и А. Черри Жеррарда, которая обнаружила тело полярника. В точности слова эти звучат так: «На этом месте погиб очень храбрый человек». Надпись эта цитируется в двадцать первой главе книги «Последняя экспедиция Скотта», которую Набоков, вероятно, читал на юге Франции в издании 1913-го или 1915 года. Имена также подверглись изменениям, причем в несколько этапов, и, за исключением самого Скотта, ни один из полярников не был назван так, как в действительности. И даже Скотт в ранней рукописной редакции назван Берингом. Абзац в конце пьесы, полностью взятый из дневника Скотта, подчеркнуто изменен Набоковым; то же самое касается многих дат и расстояний. Даже «aurora australis» заменена на «aurora borealis» — думаю, потому, что именно это выражение было распространено в России и, в расширенном смысле, употреблялось для обозначения не только северного, но и южного сияния. Примечательно, что напрямую заимствованы у Скотта лишь две чуть не самых пронзительных фразы. «Я, может быть, пробуду довольно долго...» — говорит Джонсон в пьесе и Оутс в дневнике Скотта, прощаясь со спутниками и уходя умирать среди снегов, дабы не быть им в тягость; «Обидно мне за спутников моих» — слова Скотта. Что касается строчек:
Я, к сожаленью, замечаю, Что дольше не могу писать... —
то это дословно процитированное последнее предложение из дневника Скотта; впрочем, там есть еще подпись и постскриптум: «Ради всего святого, позаботьтесь о наших людях». «Я, к сожаленью...» — дословная цитата, хотя Скэт произносит эти слова вслух, обращаясь к Флэмингу, а не зачитывает их из своей тетради.
Почему Набокова так привлекали образы бесстрашных первооткрывателей? Роберт Фалькон Скотт воплощал все лучшее, что есть в британцах: хладнокровие перед лицом опасности, тягот и боли, неустанную заботу о своих спутниках и неуклонное следование своему пути, каковой есть одновременно и героическое проявление физической выносливости, и приключение, ставящее своей целью научное открытие. Его неоспоримое мужество, его любовь к точности и поэтизация природы, его сострадание ко всему, что его окружает, — подобными качествами обладал и отец (позднее он наделил ими и равно обреченного Грегсона из «Terra incognita» и, в определенной степени, главного героя «Ланса»); кроме того, даже в самых тяжелых ситуациях Скотту не изменяло чувство юмора (последнее письмо он адресовал «Моей вдове» — Набоков передал эту мысль своему Флэмингу, который говорит: «У Кингсли — вот — невеста, почти вдова...»). Флэминг стоически пытается сохранить — по крайней мере, внешне — оптимизм, показать, что надежда теплится даже тогда, когда трагическая развязка уже неизбежна. В предсмертном бреду Кингсли мерещится, что он привозит своей невесте «гла...гла...гладенького» пингвина (именно так говорил обо мне отец, когда я был совсем маленьким, и до чего же дивно звучат в памяти эти текучие русские слоги!). У Скэта и Джонсона есть реальные прототипы, только у второго изменено имя; у Флэминга и Кингсли — в меньшей степени (некий Кинси был в составе экспедиции, но не в последней партии). Однако суть не в этом: участники реальной экспедиции Скотта и их судьбы являются не более чем отправной точкой. Куда важнее то, как, посредством перекомпоновки и смены фокуса, из исходной ситуации рождается трогательная человеческая драма, со своим миром и своей поэзией. Набоков однажды сказал, что писатель обязан подмечать «то, что есть удивительного в этом веке, малое... и большое, как, например, беспрецедентная свобода мысли, и Луна, Луна. Я помню, с каким восторгом, завистью, смятением я наблюдал на телеэкране первые парящие шаги человека по припорошенной поверхности нашего спутника и как отчаянно я презирал тех, кто считал, что прогулка в пыли мертвого мира не стоит всех этих денег» {136}. (А я помню, с каким негодованием слушал писателя, весьма популярного в определенных кругах, который, во время роскошного ужина для господ радикалов, выразил надежду, что наши астронавты навсегда застрянут в космосе.)