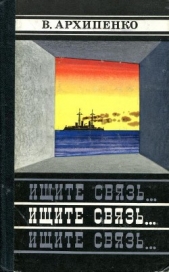Политэкономия соцреализма

Политэкономия соцреализма читать книгу онлайн
Если до революции социализм был прежде всего экономическим проектом, а в революционной культуре – политическим, то в сталинизме он стал проектом сугубо репрезентационным. В новой книге известного исследователя сталинской культуры Евгения Добренко соцреализм рассматривается как важнейшая социально–политическая институция сталинизма – фабрика по производству «реального социализма». Сводя вместе советский исторический опыт и искусство, которое его «отражало в революционном развитии», обращаясь к романам и фильмам, поэмам и пьесам, живописи и фотографии, архитектуре и градостроительным проектам, почтовым маркам и школьным учебникам, организации московских парков и популярной географии сталинской эпохи, автор рассматривает репрезентационные стратегии сталинизма и показывает, как из социалистического реализма рождался «реальный социализм».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще раньше Илья Эренбург, как раз и проделавший полный цикл превращения, выстраивал историческую перспективу преодоления «вековой грани между искусством и практикой» следующим образом: «Вчера – чуть–чуть посыпать бронзовым порошком бесформенную жизнь. Сегодня – сдуть порошок, выкинуть хлам, строить формы, сделать искусство жизнью. Завтра – созданные формы провести через все дни и труды, – сделать жизнь искусством» [131]. Сторонники левого искусства видели искусство будущего немиметическим, но именно преобразующим. «Анализируя и осознавая движущие возможности искусства, как социальной силы, – один из ведущих теоретиков ЛЕФа Сергей Третьяков требовал – бросить порождающую его энергию на потребу действительности, а не отраженной жизни, окрасить мастерством и радостью искусства каждое человеческое производственное движение» [132]. Но достаточно снять противопоставление «потребы действительности» и «отраженной жизни», чтобы получился настоящий соцреализм. В этом смысле слова Маяковского о том, что ему «лучшим памятником будет построенный в боях социализм», обретают вполне буквальный смысл: «построенный социализм» оказался памятником не кому‑нибудь, но именно поэту.
И все же не следует переоценивать авангардные истоки сталинского искусства. Идеи эстетизации реальности вовсе не были чужды людям, весьма далеким от авангарда. Луначарский в своих воспоминаниях о Ленине приводил слова вождя: «Сначала надо вырвать власть, разоружить, палить друг в друга из пулеметов для того, чтобы закрепить право народа устраивать свое хозяйство, затем нужно в поте лица наладить торговлю, справиться с машинами для того, чтобы люди были сыты, одеты, обуты. Для чего? Для того, чтобы они были счастливы. А когда дело идет о счастье, тогда на первый план является художник, потому что он есть великий организатор человеческого счастья. Вот почему до тех пор, пока искусство не выступит на первый доминирующий план, жизнь есть только пережевывание жизни» [133]. И действительно, без искусства советская «жизнь» есть простое «пережевывание» – и никакого «счастья».
Первый манифест русского формализма, эссе Виктора Шкловского «Воскрешение слова», был направлен, как известно, против наиболее влиятельного в России лингвиста и теоретика литературы Потебни, исходившего из того, что «искусство есть мышление образами». Дело, утверждал Шкловский, не в «образности», но в приемах и технике. Отсюда – модернистский техницизм. Соцреализм был возвратом к «образности» на уровне продукта, но не на уровне производства (после модернизма это было уже невозможно). Шкловский провозгласил основой искусства остранение – превращение знакомого в незнакомое. Соцреализм, наоборот, превращал незнакомое в знакомое (в этой проекции соц–арт может быть понят как остранение соцреализма). Но в своей работе по производству образов реальности соцреализм более всего, как известно, отвергал именно «формализм». Не в последнюю очередь потому, что скрывал основную свою интенцию: использовать модернистский техницизм для более эффективного утверждения традиционного, доступного реципиенту образно–миметического подхода к реальности. «Социалистического» в этом «реализме» разве что модернистская технология (как на уровне институций литературного производства, так и на уровне функционально–производственном) и тематическое задание. Эти «модернистские истоки» соцреализма [134] следует видеть, но не следует абсолютизировать.
Вначале Андрей Синявский в своем известном эссе «Что такое социалистический реализм», а затем Борис Гройс в книге «Стиль Сталин» возвратили исследователей сталинской культуры к ее эстетическим истокам. «Мы бессильны, чтобы устоять перед чарующей красотой коммунизма», – иронически замечал Синявский [135]. Гройс еще более четко проартикулировал – после десятилетий подчеркивания узкополитических и пропагандистских функций соцреализма – именно эстетическое его измерение. Но для Гройса эстетизация реальности в соцреализме является началом и концом в понимании природы этого «художественного метода». Проблема заменной реальности, «реальной идеологии» этой культуры им даже не ставится. Однако, как уже говорилось, соцреализм был чем‑то гораздо большим, чем простым «мимесисом несуществующего». И если верно, что социализм был «единственным разрешенным к созданию произведением искусства» в сталинскую эпоху [136], то в том лишь смысле, что он был чем‑то значительно большим, чем просто «произведение искусства»: будучи продуктом «художественного метода», он выходил за пределы искусства «в жизнь», и в этом состояло «оправдание» самого соцреализма.
Подчеркивая «художественный» потенциал соцреализма, Гройс сосредоточивает весь свой анализ на «демиурге», на феномене превращения партийного руководства «в своего рода художника, для которого весь мир служит материалом» [137]. Он полагает, что авангард создал новый художественно–политический дискурс, «где каждое решение относительно эстетической конструкции художественного произведения оценивается как политическое решение, и наоборот, каждое политическое решение оценивается, исходя из его эстетических последствий» [138], а затем уступил этот проект политической власти, «которой, по существу, начинает отводиться аутентичная роль авангардного художника – создавать единый план новой реальности» [139]. Говоря о «тотальном произведении искусства сталинизма», Гройс сосредоточился на его генетике, а не на онтологии. Мне уже приходилось писать о том, что соцреалистический «демиург» был продуктом далеко не только авангарда, но всего комплекса идей и практик революционной культуры [140]. Кроме того, само понятие «авангардный демиург» в контексте разговора о соцреализме не имеет никакого содержания: когда читаешь, что авангардный художник делится с властью своим проектом, невольно хочется представить себе этого художника. Если это действительно «авангардный художник», то что же принес он на алтарь сталинизма? Одни превратились в литературных чиновников, другие покончили с собой, третьи превратились в «лагерную пыль», а уж те, кто действительно остался в соцреализме – в широком диапазоне от Николая Асеева до Семена Кирсанова, – что они «принесли»? Какой «авангардный проект»? Единственное значение слова «проект», доступное соцреалистическому «демиургу», это бюрократическое «проект резолюции».
«В связи с тоталитарными движениями XX века иногда говорят об эстетизации политики, что молчаливо предполагает население этих стран в роли зрителей, – пишет Гройс. – Скорее следует говорить об эстетизации всей жизни страны, для которой население было статистами или рабочими сцены, а Сталин – единственным автором и зрителем. Только для него строились высотные здания и московское метро, сооружались каналы и плотины, и перед ним тянулись дважды в год ликующие толпы, в которых он видел «всю страну и ее нового человека». Эстетика соцреализма есть поэтому эстетика сталинской политики, которая в свою очередь ставила себе эстетические задачи» [141].
Дело, однако, в том, что политика не ставит себе эстетических задач. Она решает задачи политические, т. е. задачи овладения и удержания власти. Кроме того, абсолютизируя соцреалистическую стратегию эстетизации реальности, Гройс не ставит вопроса о ее функциях. Если дело только в том, что Сталин сам становится художником, тогда все упирается лишь в некий артистический нарциссизм вождя.