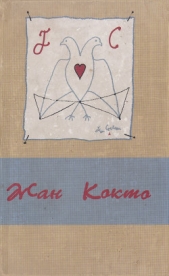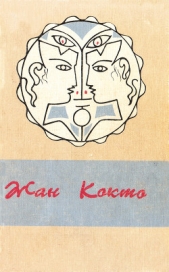Эссеистика
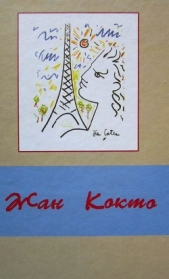
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К такому типу книг относится «Большой Мольн» {49}. Одна из моих книг, «Ужасные лети», делит с ним эту странную привилегию. Те, кто прочел ее и увидел в ней себя, уже в силу самого факта идентификации себя с моими чернилами стали жертвой сходства, которое теперь они вроде бы должны поддерживать. Результат — искусственно создаваемый беспорядок и умышленное моделирование такого положения вещей, которому оправданием может быть лишь его неосознанность. Я получил несметное количество писем с признаниями типа: «Я — ваша книга» или «Ваша книга — это мы». Война, послевоенное время, относительная несвобода, которые на первый взгляд делают определенный стиль жизни невозможным, нисколько их не смущают.
Я писал эту книгу в клинике Сен-Клу, имея в качестве прототипов моих друзей, брата и сестру. Я думал, они одни так живут. И по той причине, которую я здесь объясняю, я не был готов к подобному эффекту. «Кто в них себя узнает?» — думал я. Уж во всяком случае не те, о ком я пишу, потому что в том и состоит их очарование, что они не ведают, кто они такие. И в самом деле, насколько мне известно, они оказались единственными, кто не признал себя в моих героях. А если существуют где-то такие же, как они, то я все равно ничего о них не узнаю. Моя книга стала молитвенником для мифоманов и тех, кто желает спать наяву.
«Самозванец Тома» — история, но в то же время книга, не создающая историй. В период освобождения с ней едва не произошло то же, что и с «Ужасными детьми». Появились юные фантазеры, начавшие терять голову, переодеваться в чужое платье, менять имя и воображать себя героями. Приятели называли их «самозванцами Тома» и пересказывали мне их подвиги — в том случае, если они сами этого не делали. Но редкий фантазер срастается со своей легендой. Настоящие самозванцы не любят снимать маску. В сущности все просто. Книга либо сразу порождает истории, либо не порождает никогда. У «Самозванца Тома» никогда не будет популярности «Ужасных детей». Что фантазер может сделать из фантазера? Это все равно, как если бы англичанин стал играть роль англичанина.
Смерть Тома де Фонтенуа — из области мифологии. Ребенок, играющий в лошадку, по-настоящему становится лошадкой. Когда же мифоман читает «Ужасных детей», он тоже играет в лошадку — с той разницей, что он только думает, будто он — лошадка.
О чувстве меры
Возможно, я и знаю, насколько могу зайти слишком далеко. Но это то, что называется чувством меры. Я им почти не обладаю. Скорее, у меня есть чувство равновесия, которым я горжусь, потому что оно сродни ловкости лунатика, балансирующего на краю крыши. Едва меня разбудят или сам я проснусь — по глупости, что со мной случается, — как оно пропадает. Только рассказывать я собираюсь совсем не об этом чувстве. Я расскажу о чувстве меры, интригующем меня своей близостью к тем явлениям, о которых я пишу в этой книге, и которые я лишь констатирую, не пытаясь их объяснить. Мир цифр мне чужд. Для меня это мертвый язык, в котором я смыслю не более, чем в иврите. Считаю я на пальцах. Если надо вычислить что-то на бумаге, я теряюсь. Счет вообще выше моего понимания. Меры отмеряются в моем сознании по волшебству. Я никогда не пишу черновиков. Никогда не считаю строчки, ни страницы, ни уж тем более слова. Когда я пишу пьесу, то подчиняюсь рельефу каждого акта. На спуске бывает сложновато. Но слышится щелчок — и я знаю, что это конец. Я никогда еще не задавался вопросом: «Не слишком ли это коротко?» Как есть — так есть. Не мне судить. На поверку все оказывается как надо.
Фильм, чтобы его пустили в прокат, должен быть не короче двух тысяч четырехсот метров. Это неправильная мера. Для жанра новеллы слишком много. Для романа слишком мало. Но это неважно. Мера есть мера. Ее надо соблюдать. Когда я снимал «Красавицу и Чудовище», это было главной заботой нашей постановочной группы: вдруг у меня выйдет слишком коротко? Напрасно я толковал о моих особых методах — мне указывали на цифры, а решают именно они. Фильм получался слишком коротким. Лица — вытягивались. А я продолжал делать свое дело.
Фильм состоит из коротких и длинных эпизодов, как из точек и тире. Такой у него внутренний ритм. Цифрам этот ритм не ведом. Бухгалтерский расчет был, конечно, верен. Мой — тоже [17]. Когда в последний день я спросил ассистентку, в каком соотношении находятся бумага (это — одно) и реальность (это — совсем другое), то она в изумлении ответила, что я близок к финалу. У меня в запасе оставалось два эпизода. Ничего об этом не зная, я как раз накануне решил снять еще две сцены. Киновремя я не исчерпал, но удлинять фильм мне не хотелось. Потом его резали, кромсали, кроили-перекраивали, клеили-переклеивали — и наконец он набрал-таки свои две тысячи четыреста метров. Ни метром больше, ни метром меньше.
Если я рассказываю эту историю, в которой вроде бы сыграл такую красивую роль, то лишь затем, чтобы показать на живом примере, как все эти происходящие в нас самовычисления в конце концов побеждают арифметику. Поэзия — это те же цифры, алгебра, геометрия, вычисления и доказательства. С той только разницей, что их не видно.
Единственные доказательства, которые могут представить поэты, — это те, что привожу я. Бухгалтерия усматривает тут какую-то дьявольскую хитрость. Инквизиция заставила бы их дорого заплатить за это.
Длинное произведение может оказаться совсем не длинным. Маленькое может оказаться большим, великим. Меры, их определяющие, отмеряются внутри нас. «Адольф» {50} — великая книга. При этом Пруст краток.
У Марселя Пруста на бульваре Османн цифры, которые я противопоставляю математическим выкладкам, становились очевидностью. Их был целый рой. За их работой можно было следить сквозь стеклянную заслонку. Их можно было почти пощупать. Пробковый короб за медной кроватью, уставленный склянками столик, на нем — театрофон (аппарат, позволявший слушать некоторые театральные постановки), стопка школьных тетрадей и на всем — пыль, мех пыли, которую никогда не сметали; люстра, обернутая люстрином, стол черного дерева, на котором в полумраке сгрудились фотографии кокоток, герцогинь, герцогов и ливрейных лакеев из великосветских домов; камин с потускневшим зеркалом, чехлы, чехлы, и снова пыль, запах противоастматических порошков, запах склепа. Эта жюльверновская комната была «Наутилусом», оборудованным сверхчувствительными приборами для подсчета наших цифр, чисел и мер. Казалось, вот-вот появится капитан Немо собственной персоной: Марсель Пруст — тонкий, бескровный, с бородкой мертвого Карно.
Эту черную халифскую бородку Пруст надевал и снимал так же часто, как те чудаки из провинции, что подражают государственным деятелям или дирижерам. Мы знали его с бородой, но видели и без нее, каким представил его Жак-Эмиль Бланш: с орхидеей в петлице и яйцевидным лицом.
Однажды в присутствии моего секретаря, плохо знавшего и самого автора, и его произведения, говорили о Марселе Прусте. «Ваш Пруст, — сказал он вдруг, — напоминает мне брата узницы Пуатье» {51}. Удивительные слова. Они приоткрывают дверь в квартиру на бульваре Османн. Мы вдруг увидели этого брата с огромными блуждающими глазами, с жандармскими усищами, в жестком воротничке и котелке; он входит к своей сестре и провозглашает голосом людоеда, что составляет часть церемониала: «Ох-хо-хо! Дела идут хуже некуда». Должно быть, именно эту фразу, повторенную неоднократно, несчастная дева переделала по прихоти своей фантазии, и она из «de mal en pis» (из плохого в худшее) превратилась в «Малампиа». Как не вспомнить при этом о «доброй славной дремучей глуши» и о «милой уютной пещерке» в наглухо закрытой комнате, где, лежа одетый на своей кровати, в воротничке, галстуке и перчатках, нас принимал Марсель Пруст. Панически страшась малейшего запаха, движения воздуха, приоткрытого окна, солнечного луча, он спрашивал меня: «Дорогой Жан, вы не держали руку дамы, которая касалась бы розы?» — «Нет, Марсель». — «Вы уверены?» И полувсерьез, полушутливо он объяснял мне, что одной фразы из «Пеллеаса» {52} — той, где над морем пробежал ветерок, — было довольно, чтобы вызвать у него приступ астмы.