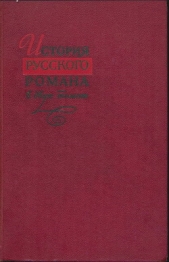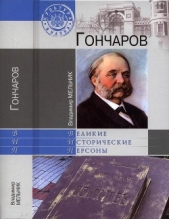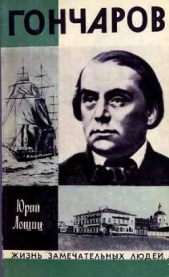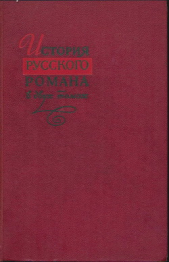История русского романа. Том 2
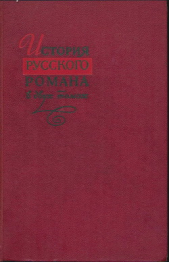
История русского романа. Том 2 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Август Бебель говорил об этом изображении исторического развития человеческого чувства любви: «… жемчужиной среди всех эпизодов представляется мне сравнительная характеристика любви в различные исторические эпохи, облеченная в форму снов Веры. Это сравнение, пожалуй, лучшее, что XIX век до сих пор сказал о любви». [38]
Идея живой и неразрывной связи прошедшего с настоящим и будущим раскрыта в четвертом сне вполне конкретно и в то же время несет в себе обобщение всемирно — исторического масштаба; всю историю человечества писатель осмысляет как историю развития от низших форм к высшим не только в области гражданской жизни и быта, но одновременно как историю очеловечивания чувств и непосредственных отношений между людьми, подготавливающую торжество социалистического строя жизни.
Глубоко продуманное и, может быть, как раз в силу этого слишком правильное и симметричное построение романа оказалось бы схематичным, если бы не одна из главных особенностей Чернышевского — беллетриста, составляющая его неоспоримое своеобразие. Эта особенность заключается в том, что заранее продуманные сюжетные и композиционные схемы освещены изнутри развивающейся, напряженной, проникнутой страстью и иронией авторской мыслью. Если «Что делать?», вопреки бесчисленным прямым или косвенным нападкам эстетствующих снобов, является произведением, выдерживающим самые высокие эстетические критерии, то это достигнуто в первую очередь не совершенством пластического воспроизведения жизни, а энергией, живостью и красотой мысли, которая изнутри освещает все элементы содержания и формы этого романа.
Ведущая роль ищущей мысли по отношению к художественной фантазии определяет серьезные поэтические достижения лишь при известных условиях; главное из них — чтобы сама мысль романиста была не только прочувствованной, страстной и гибкой, но и новой, проницательной и самостоятельной мыслью, а не простым повторением или приложением общеизвестных идей. Мало того, даже вполне оригинальные мысли становятся подлинно поэтическими, дают жизнь образам и событиям произведения лишь в том случае, если они не иллюстрируются, как «заданные идеи», но развиваются и обогащаются, открывают новые грани явлений в самом ходе повествования, превращая роман в своеобразное беллетристическое исследование действительности. Этим условиям, как мы видели, целиком отвечает роман «Что делать?».
Сам Чернышевский прекрасно отдавал себе отчет в том, что составляет его силу и своеобразие как романиста. Более того, он ясно указывал и на литературно — эстетические традиции, которые он наследовал и развивал в своих романах. Это традиции мирового и русского публицистического романа, так тесно связанного с развитием просветительской мысли.
Впервые обращаясь к беллетристической форме, Чернышевский не рассчитывал обнаружить в себе поэтический талант. Но после завершения романа «Что делать?» он приходит к иному взгляду на свои возможности: «Главное в поэтическом таланте — так называемая творческая фантазия. Я, никогда не занимавшись в себе ничем, кроме того, чем заниматься заставляла жизнь, полагал, что во мне эта сторона способностей очень слаба; она, действительно, была неважна для меня, пока я не вздумал стать романистом. Но когда я писал „Что делать?“, во мне стала являться мысль: очень может быть, что у меня есть некоторая сила творчества. Я видел, что я не изображаю своих знакомых, не копирую, — что мои лица столь же вымышленные лица, как лица Гоголя» (XII, 682).
Тут же Чернышевский подчеркивает, что характер свойственной ему творческой силы качественно иной, чем у Гоголя, Диккенса, даже у Помяловского, ибо поэтическая верность созданных им характеров и картин достигается не столько силой творческой фантазии, сколько проницательностью и гибкостью мысли, постигающей скрытую связь явлений: «Я не хочу сказать этим, что у меня такая же сила творчества, как у Гоголя. Нет, этим я и не интересуюсь. Я столько вдумывался в жизнь, столько читал и обдумывал прочтенное, что мне уже довольно и небольшого поэтического таланта для того, чтобы быть замечательным поэтом» (XII, 682). Чернышевский дважды подчеркивает, что речь идет не о большем или меньшем поэтическом достоинстве, а о различии качественном — об ином типе поэтического воспроизведения действительности: «Очень сомнительно, чтобы поэтический талант был у меня велик. Но мне довольно и небольшого, чтобы писать хорошие романы, в которых много поэзии. Я не претендую равняться с великими поэтами. Но успеху моих романов не мог бы помешать и Гоголь. Я был бы очень заметен и при Диккенсе» (XII, 682–683).
Противопоставляя себя современным молодым писателям, у которых, по его убеждению, «есть сильный талант», Чернышевский утверждает: «Они мне не соперники. Моя сила не в том… Они — сами по себе, я — сам по себе. То люди одной карьеры с Диккенсом, Жоржем Зандом. Я хотел идти по такой карьере, как Годвин» (XII, 683). В чем же видит Чернышевский свою близость к Годвину? Этот вопрос он разъясняет, сопоставляя Годвина с Бульвер — Литтоном, который, по мысли Чернышевского, одарен был большею силою воображения, но обладал гораздо меньшею силою мысли, был ниже по уровню понимания общественной жизни и человека: «Один из моих любимых писателей — старик Годвин. У него не было такого таланта, как у Бульвера. Перед романами Диккенса, Жоржа Занда, из стариков — Фильдинга, Руссо, романы Годвина бледны… Но бледные перед произведениями, каких нет ни одного у нас, романы Годвина неизмеримо поэтичнее романов Бульвера, которые все- таки много лучше наших Обломовых и т. п. Бульвер — человек пошлый, должен выезжать только на таланте: мозгу в голове не имеется, в грудь вместо сердца вложен матерью — цриродою сверток мочалы. У Годвина при посредственном таланте была и голова, и сердце, поэтому талант его имел хороший материал для обработки» (XII, 682).
Нетрудно заметить, что в этом сопоставлении, хотя и в иной интонации, с большей резкостью суждения, повторяется то же сопоставление двух типов романистов, которое делал Белинский в своем знаменитом «Взгляде на русскую литературу 1847 года», говоря о первых романах Герцена и Гончарова. Упоминание о втором романе Гончарова в связи с Бульвером — Литтоном можно считать даже своеобразной ссылкой на рассуждение Белинского. Имени Герцена Чернышевский не мог упомянуть, поскольку все, писанное в крепости, внимательно прочитывалось чинами III Отделения. Думается, однако, что Чернышевский имел в виду именно Герцена, как ближайшего своего предшественника в области романа, одушевленного поэзией мысли, когда писал: «Очень может быть, что у меня перед глазами, как человек одной со мной карьеры, не один Годвин, а и еще кто‑нибудь, сильнее Годвина. Говорить об этом — неудобно. Не для моего самолюбия, а потому, что это больше дело истории, чем современности. Но вы можете быть уверены, что я вполне понимаю то, что пишу» (XII, 684).
Не располагая материалом, делающим эту догадку бесспорной, мы во всяком случае можем утверждать, что все, сказанное Белинским об особенностях Герцена — беллетриста, в высшей степени справедливо также и по отношению к Чернышевскому — романисту. Белинский видел в особенностях Герцена — беллетриста не чисто индивидуальное свойство, присущее исключительно и только этому писателю: «Нет, такие таланты так же естественны, как и таланты чисто художественные. Их деятельность образует особенную сферу искусства, в которой фантазия является на втором месте, а ум — на первом». [39] Это явление закономерно в литературном развитии именно потому, что поэзия теснее других искусств связана с развитием мысли, что «пределы ее обширнее, нежели пределы всякого другого искусства», и в этих пределах вполне умещаются не только «поэты — художники», но и «поэты мысли».
Маркс назвал Чернышевского и Добролюбова «двумя социалистическими Лессингами». Характерно, что Чернышевский относил Лессинга к тому же разряду писателей, к которому Белинский относил Герцена и к которому Чернышевский относил Годвина, Герцена и самого себя. Он ссылается на суждение Лессинга об особенностях своей натуры как драматурга: «… относительно всего, что только есть сносного в моих последующих драмах, я очень твердо знаю, что всем этим я обязан исключительно критическому размышлению» (IV, 98). И вслед затем разъясняет уже свое отношение к Лессингу как художнику: «Поэтического таланта, без сомнения, было у него не меньше, нежели у кого- нибудь из немецких поэтов, кроме Гете и Шиллера, далеко превосходивших его в этом отношении, — он только хотел сказать, что натура его вовсе не такова, как натура людей, созданных исключительно быть поэтами, подобно Шекспиру или Байрону; что у него творчество слишком слабо в сравнении с силою вкуса и мысли и действует не самопроизвольно, как у Шекспира или в народной поэзии, а только по внушению и под влиянием обсуждающего ума» (IV, 99).