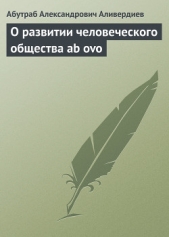Избранные труды. Теория и история культуры

Избранные труды. Теория и история культуры читать книгу онлайн
Книга посвящена проблемам истории и теории культуры. Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время с 1966— 2001 гг. Для настоящего издания прежде опубликованные статьи перерабатывались, многие статьи написаны специально для этой книги. Культура рассматривается как форма общественного сознания, отражающая характер и структуру общества, состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и надындивидуальные нормы и представления, основанные на обобщении этой практики и регулирующие поведение индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневно-бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности— привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту. Достоинство книги в том, что теоретические обобщения опираются на конкретный материал, возникают из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И здесь наступает самое интересное.
Авл Геллий (Аттические ночи. XIII. 22 (21). 5), констатировав, что «любая обувь, состоящая из подошвы, которая покрывает лишь ступню, все остальное оставляя открытым и прикрепляясь к ноге ремешками, называется римскими сандалиями, а иногда также и греческим именем — крепиды», рассказывает случай, когда преподаватель риторики сделал выговор ученикам из сенаторских семей, явившимся на занятия в туниках, толстых плащах с рукавами и сандалиях. (Ритор назвал их «галльскими», но по разъяснению Геллия слова «галльские», «римские» и «крепиды» были в эту эпоху уже взаимозаменяемы и могли относиться к любому типу легкой обуви.) Выговор был сделан с древнеримской суровостью и основан на том, что провинившиеся были детьми сенаторов. Одежда и обувь их были, признавал ритор, совершенно обычными и давно уже общераспространенными, но недопустимыми
605
именно для них как для отпрысков сенатских родов. Знаковый смысл крепид и других видов обуви или одежды того же чина ко времени Адриана, когда происходил описанный эпизод, давно нейтрализовался. Возвышенная архаическая собственно римская традиция вознеслась в отчужденную сферу государственно-республиканской символики, утратившей связь с жизненной практикой императорской поры. Стоило, однако, римлянину модулировать в жившую рядом сферу официально утверждаемых республиканских реминисценций, как республиканская семантика оживала, отчуждение как будто исчезало, и вещи начинали снова значить то, что они значили когда-то, когда повседневно-бытовая и государственная сферы, жизнь и Res publica Romana не разошлись так, как разошлись они в империи Антонинов. Названный Авлом Геллием ритор не был одинок. Несколькими десятилетиями раньше Персии говорил о человеке, который издевался над «крепидами греков» — но издевался лишь потому, что был «горд италийского званьем эдила» (Сатиры. I. 126—129), т. е. в определенный момент ощутил себя официальным лицом, римлянином «с большой буквы», а значит, человеком, чуждым тем обычаям и тем критериям, которые регулировали его жизнь каждый день.
3. Теснота
Говоря о законе Цинция, мы стремились показать, как изменения правовых представлений на протяжении последних веков республики и первого века принципата обнажали социально-психологическую перестройку общественного сознания: от норм неотчужденного существования при республике к реальности более или менее отчужденного бытия при империи. Как бы глубоко ни проникало это противопоставление в массовое сознание, непосредственной его основой оказывался в этом случае определенный правовой акт. Контраст республиканской неотчужденности и имперского отчуждения был как бы культурно-антропологической надстройкой над некоторой идеологической основой. Когда дело касалось семиотики одежды и обуви, люди в известной мере отдавали себе отчет в общественном и культурном смысле изменений, вносимых ими в свой внешний облик, но в виде основного регулятора выступали, разумеется, внеидеологические факторы: вкус, мода, престиж, состязательность и т.д. Мы, таким образом, подошли существенно ближе, чем в первом случае, к той живой глубине исторического бытия, где условия труда и жизни
606
переплавляются в полуосознанные, насыщенные эмоциями и страстями непосредственные устремления и реакции, которые и являются первыми, исходными импульсами исторического поведения. Сделаем следующий шаг и обратимся теперь к тому культурно-историческому пространству, где вообще нет места идеологии, где, все от подсознательного деления действительности на привычное и непривычное, наше и чужое, где привычное и «наше» начинает излучать комфортность, престижность и тем самым становиться ценностью, где противоположность республикански-неотчужденного и имперски-отчужденного уклада существования составляет самый глубинный пласт исторического бытия римлян, в котором сопоставление этих двух укладов образовывало реально переживаемую дихотомию. В этом смысле переживание тесноты и в качестве ее противоположности — того, что англичане называют privacy, — оказывается корнем разбираемой ситуации, а восприятие Цинциева закона, семиотика одежды и другие сродные явления — ее разрежением и сублимацией, своеобразной метафизикой тесноты.
Вплоть до второй половины I в. н. э., т. е. до полного развития империи в ее ранней, принципатной форме, в Риме, на улицах и в жилых домах, в тавернах и общественных зданиях царила крайняя теснота. Технически она была связана с несколькими обстоятельствами. Во-первых, центральная зона города, где сосредоточивалась общественная жизнь, куда в утренние часы стягивалась большая часть взрослого мужского населения и приезжих, была очень ограничена, не более двух квадратных километров между излучиной Тибра и Виминалом, между Марсовым полем и Целием. Улицы имели обычно ширину пять-шесть метров и никогда, кажется, не больше девяти. Ювенал так описывал центр Рима флавианской эпохи:
<…> Мнет нам бока огромной толпою
Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, а тот палкой
Крепкой, иной по башке тебе даст бревном иль бочонком;
Ноги у нас все в грязи, наступают большие подошвы
С разных сторон и вонзается в пальцы военная шпора.
(III. 244-248)
Не лучше обстояло дело в общественных зданиях, если судить, например, по Юлиевой базилике. В этом пятинефном здании размером 60 на 180 метров постоянно заседали четыре уголовных cуда; в каждом было по 26 судей, подсудимый приводил с собою
607
десятки людей, оказывавших ему моральную поддержку, а выступления знаменитых ораторов привлекали сотенные аудитории. Тут же непрерывно шла игра (следы очерченных на полу кругов и квадратов, куда забрасывались кости, сохранились до сих пор), кричали менялы, постукивая монетами по своим столикам; все это постоянно хотело есть и пить, и в толпе курсировали продавцы съестного. Вряд ли по-другому обстояло дело у храмов. Стиснутые на узких улицах люди одновременно, вплотную друг к другу, занимались самыми разными делами. В декабре 69 г., когда солдаты императора Вителлия штурмовали Капитолий, где засели флавианцы, младший сын Флавия Веспасиана и будущий император Домициан спасся, замешавшись в толпу поклонников Иси-ды, которые спокойно отправляли свой культ, нимало не смущаясь сражением, идущим вплотную к ним.
Так же обстояло дело в жилых домах. Об инсулах в том виде, в каком они существовали примерно с конца II в. до н. э. до середины I в. н. э., говорить не приходится — положение описано здесь многими авторами и общеизвестно. Но и особняк-domus был ареной той же тесноты и шумной публичности существования. Связано это было с наличием таберн, большинство из которых сдавалось внаем и не только под склады, но и под лавки или публичные дома, хозяева которых поселялись тут же на антресолях; с наличием в доме второго этажа, помещения в котором иногда соединялись с внутренними комнатами дума, а иногда имели самостоятельный выход на улицу; с практикой приобретения одним хозяином нескольких соседних домов и соединения их в один жилой муравейник; с балконами, которые соединяли по фасаду несколько домов, так что жильцы могли проходить через комнаты соседей. Можно представить себе, каково жилось в Помпеях в доме № 18 двенадцатого участка VII района, часть которого занимала одна семья, в табернах расположился публичный дом, а в аттике ряд помещений принадлежал каждое отдельной семье, и члены их проходили домой по балкону, имевшему выход через соседний дом № 20. В книге VIII «Дигест» есть целый титул (второй), посвященный разбору казусов, возникавших из того, как переплетались в подобной путанице права отдельных хозяев на помещения, архитектурно и строительно представлявшие собой единый и неразделимый жилой муравейник.
Существенных уточнений требует распространенный взгляд, согласно которому описанная скученность — порождение перенаселенности Рима в раннеимператорскую эпоху. Такого рода перенаселенность, разумеется, существовала и связана она, действи-