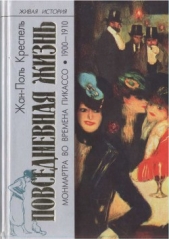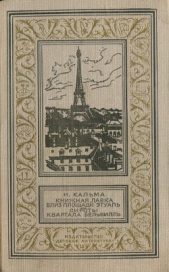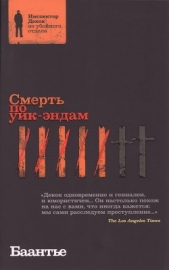От Монмартра до Латинского квартала

От Монмартра до Латинского квартала читать книгу онлайн
Жизнь богемного Монмартра и Латинского квартала начала XX века, романтика и тяготы нищего существования художников, поэтов и писателей, голод, попойки и любовные приключения, парад знаменитостей от Пабло Пикассо до Гийома Аполлинера и Амедео Модильяни и городское дно с картинами грязных притонов, где царствуют сутенеры и проститутки — все это сплелось в мемуарах Франсиса Карко.
Поэт, романист, художественный критик, лауреат премии Французской академии и член Гонкуровской академии, Франсис Карко рассказывает в этой книге о годах своей молодости, сочетая сентиментальность с сарказмом и юмором, тонкость портретных зарисовок с лирическими изображениями Парижа. В приложении к книге даны русские переводы некоторых стихотворений поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так, пестрой чередой, проходили эти все же прекрасные годы. Я открывал в моих друзьях то же стремление обрывать всякую начинавшуюся любовь. Зачем я не поступал, как они? Некоторые из них даже любовались, как зрители, драмами, причиной которых они были, тогда как я, завязывая с падшим девушками связи, за которые мне бы, быть может, следовало краснеть, барахтался в пьянстве, в отвращении, в муке — и не мог освободиться. Чем больше возрастали эти мучения, тем больше я чувствовал себя во власти моих пагубных привычек. Я любил не только этих девушек. Может быть, еще больше любил я мрак улиц, отели, кабачки, холод, мелкий дождь, сеявший над крышами, случайность встреч и потом — в комнате — острое ощущение заброшенности, сжимавшее мне сердце. Эта обстановка, которой темные зимние ночи придавали какой-то трагический и волнующий колорит, держала меня в плену, давая мне ощущения, ни с чем несравнимые. И я упивался терпким вином моего собственного несчастья.

Не передал ли Утрильо в своем творчестве эту таинственную и жестокую одержимость, которая в определенный период жизни сказалась на нем сильнее, чем на ком бы то ни было? Это она тяжестью легла на наши 2 о лет и отметила лучших людей моего поколения таинственным знаком, по которому они всегда смогут узнать друг друга. У Утрильо она сразу бросается в глаза, потому что Утрильо так тщательно углублял и растил в себе эту мрачную «одержимость», что не сумел уже освободиться от нее никогда. Вспомните пустынные перспективы в его этюдах Парижа и предместья: на стенах, на фасадах домов с закрытыми ставнями, на коричневых прилавках кабачков светит какой-то неподвижный, застывший свет, который мог родиться лишь в тех глубинах мечты, о которых никто не осмеливается говорить. И какая в этих далях Утрильо тревожность, какая неуловимая, беспокойная, смутная тоска, какие раздирающие призывы! Кажется, будто в ту самую минуту, когда помощь была близка, единственное живое существо в мире ушло, повернуло за угол одного из этих нарисованных домов — и скрылось навеки. Как же оно не услышало зова? И отчего? Я питтту эти строки — и вижу мысленно перед собой одну из картин Утрильо, где с магической властью проступает то, что составляло силу и величие художника. На этом полотне белые, синие и розовые тона дают такую чудесную гармонию, что вы не можете от них оторваться. Узкий дворик, стены, открытая дверь, немного листвы над самою крышей. Тишина! Вспоминается Верлен, вздыхавший:
— и, незаметно, вид этого чистенького дворика чем-то вас притягивает, вы подходите ближе с любопытством; и как будто из-за ставень вас кто-то наблюдает, а вы притворяетесь, что не замечаете этого. Но уверены ли вы, что там ничего нет? Не то ли другое наше «я», которое мы всю жизнь заглушаем, прогоняем, каким-то волшебством оживает, когда стоишь перед этой картиной? Эти места каждому человеку так знакомы! Он их узнает. Чувство, которое охватывает при этой странной встрече со вторым своим «я», способны понять лишь те, кто, когда в первый раз произошла эта встреча, был слишком слаб, чтобы спастись от нее бегством.
Поверите ли, я перед картиной Утрильо впервые почувствовал этот страх, не поддающийся анализу, это беспокойство, и, бредя поздно по улицам, осознал в своем мятущемся существовании все то, что волнует в тишине ночи, что в отчаянии ищет себя самого, приходит, уходит… и возвращается снова, несомое ветром. Я не умею объяснить лучше; на другое утро, при свете солнца, мне стоило величайшего из усилий вернуть себе прежнее настроение, собрать мысли. Я испытывал острую муку. Я боролся с той темной силой, которой дал себя околдовать накануне, и, в конце концов найдя себя снова, разозлился. Да и как было не злиться? Все изменилось, и вдохновенный поэт прошлой ночи превратился в поденщика, лишенного фантазии, в копировщика, который, строча стихи, забыл, если не их ритм и тоскливый жар, то во всяком случае их смысл!
Печальные пробуждения! Монмартр казался уже просто кварталом Парижа, ничем не отличающимся от других. Кредиторы ломились в дверь. Консьержка с квитанцией в руке требовала денег за квартиру.
— Чем доводить себя до такого состояния, — говорила эта смешная особа, — вы бы, сударь, лучше…
— Да, да, конечно!.
Макс Жакоб выходил к кредиторам с каким-нибудь извинением. Другие, сидя за рабочим столом, совершенно голые, кричали на стук: «Войдите!» и, когда кредитор врывался, отвечали хладнокровно: «Вы видите, у меня уже взяли все, до нитки!» Но обыкновенно все споры начинались по ту сторону дверей, и мы спасались от них рысью. Каждый триместр — 15-го числа (роковое число!) супружеские пары, казавшиеся неразлучными, расходились, потому что наступал срок уплаты молочнику, мяснику, бакалейщику; все поставщики делали из этого очень нелестные для нас выводы, которые и преподносили нам при всяком удобном случае. А мораль, которой они нам так надоедали, все же была моралью и, если бы мы на нее обращали внимание, пожалуй, только она и могла бы отвратить нас раньше времени от поклонения случайностям жизни. Мне вспоминается по этому поводу, как меня однажды разбудили в гостинице на улице Лепик. Мне пришлось оставить хозяину стихи, платье и туфли и, стуча зубами от холода, без пальто, без шляпы (а на дворе стояла зима) удирать в кабачок на площади Пигалль. О, какими безобразными казались мне в то утро площадь, фонтан, зеленые автобусы! Стоя у прилавка, весь окоченев, полусонный, я смотрел в окно на прохожих, и настроение у меня было самое унылое. «Каково! — говорил я себе. — Платить? Постоянно одна песня — плати!»
Я думал о товарищах, которые, вероятно, в аналогичных случаях предавались таким же точно размышлениям, и, пав духом, постигал, что Монмартр, так же, как и всякое другое место, не есть рай для артистов и что им некуда идти. Текучие струи фонтана, крутые улицы, спускавшиеся к Парижу, все манило вдаль. «Не уехать ли?..»
Я вышел из кабачка в ту минуту, когда автобус «Площадь Пигалль — Винный рынок», качаясь, двинулся с места, — и вскочил на его подножку.
X
Когда едешь в автобусе «Площадь Пигалль — Винный рынок», разница между Монмартром и Латинским кварталом сразу бросается в глаза. Вдруг открываешь совсем иные места, непохожие на «Мулен-Руж», «Ля-Галет», «Кролик», даже «Сакрэ-Кёр». Многое встает в памяти…
Острый зубчатый шпиц «Ля-Шапель», башни Нотр-Дам, притвор церкви св. Жюльена Нищего мелькали передо мной в синеватом свете зимнего утра, и, хотя на этом берегу Сены я не располагал никаким кредитом, я вдруг почувствовал прилив бодрости. Когда-то давно, приехав впервые в Париж, я поселился на острове Сен-Луи, так как Шарль-Луи-Филипп писал мне из своей комнатушки, что это — единственное на свете подходящее место для поэта. Но Шарля-Луи-Филиппа уже не было в живых, когда я поселился на набережной Бурбонов, и я не долго оставался там. Это тихое, уединенное место с его меланхолическими деревьями, рекой, старинными домами, мне чересчур напоминало провинцию. Мне было скучно, а мои поздние возвращения по ночам вызывали негодование консьержки, и это меня очень стесняло. К чему скрывать: я был тогда еще очень робок, мне недоставало уверенности в себе. Меня ошеломляли пивные, рестораны, кафе, кареты и вечное лихорадочное оживление Парижа. У меня было еще очень мало знакомых. Когда я усаживался в каком-нибудь кафе или баре и смотрел на женщин, они мне внушали скорее удивление и восхищение, чем желание, — и я не смел к ним подойти. Одну из них, которую я встречал в таверне Пантеона и которой восхищался про себя, очень забавляло мое смущение. Эта брюнетка, курившая великолепные сигаретки с золотым концом, была одной из самых доступных: она была далека от того, чтобы «держаться своей цены», и после закрытия заведения была готова идти за любую плату. Но мне, разумеется, и в голову не приходило пользоваться такой «скидкой», и наше знакомство состоялось только тогда, когда она однажды вечером попросила у меня три франка на извозчика, объяснив, что у нее очень болит нога. Я их, конечно, дал ей и, остолбенев от изумления, увидел вслед затем, как милая попрошайка, сразу перестав хромать, со всех ног помчалась к кондитерской, где дамы этого сорта имели обыкновение «угощаться» всю ночь.