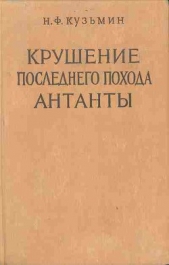«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов

«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов читать книгу онлайн
В книге В. К. Кантора, писателя, философа, историка русской мысли, профессора НИУ — ВШЭ, исследуются проблемы, поднимавшиеся в русской мысли в середине XIX века, когда в сущности шло опробование и анализ собственного культурного материала (история и литература), который и послужил фундаментом русского философствования. Рассмотренная в деятельности своих лучших представителей на протяжении почти столетия (1860–1930–е годы), русская философия изображена в работе как явление высшего порядка, относящаяся к вершинным достижениям человеческого духа.
Автор показывает, как даже в изгнании русские мыслители сохранили свое интеллектуальное и человеческое достоинство в противостоянии всем видам принуждения, сберегли смысл своих интеллектуальных открытий.
Книга Владимира Кантора является едва ли не первой попыткой отрефлектировать, как происходило становление философского самосознания в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шпет писал: «Наша культура, — по происхождению: средиземноморская, теперь: всемирная, — направляется, вообще говоря, двумя стихиями — восточной и европейской. В этом противопоставлении я беру название европейская в узком и собственном смысле самостоятельного творчества народов, населяющих Европу. Его, это самостоятельное творчество, в чистом виде можно проследить в культуре европейцев только до распространения в Европе христианства, т. е. главным образом, и выражаясь точнее, — идей христианства, христианской идеологии и христианского “мировоззрения”» [1132]. Иными словами, европеизм в чистом виде скончался под ударом христианства, стало быть, полагал русский философ, и сложившаяся за двадцать веков христианства Европа — не может, строго говоря, называться Европой.
Казалось бы, в отличие от православных наших идеологов, приветствовавших наступавший тоталитаризм, он должен был стремиться убежать. Ведь уже в дневнике 1920 г. он писал: «То, чем пугали в коммунизме, и чему мы не верили, оказалось действительностью. Коммунизм хочет довершить то, что не удалось христианству. Во имя спасения души христианство отказывалось сперва, а потом гнало чистую мысль, науку и творчество; то же делает коммунизм, но во имя сохранения чрева. Это может оказаться более действительным. Как и христианство, коммунизм, каким он изображается в идее, не будет осуществлен, но как и в христианстве, то, что будет осуществлено — достаточно для уничтожения культуры мысли» [1133]. Но, быть может, именно это его восприятие коммунизма как инварианта христианства, его негативное отношение к коммунизму как‑то объясняет и его неприятие христианства. И, прежде всего, в его православном варианте.
В письме 1920 г. Шпет писал: «Ну, так вот, всякий народ определяется его аристократией, то есть умом, культурою, воспитанностью, и только у нас — добродетелью мужичка, — как всякая армия определяется достоинством штаба, и только у нас — “выносливостью” солдата» [1134]. Как видим, классическая мифологема Платона Каратаева (у Льва Толстого) и мужика Марея (у Достоевского), на которую опиралась христианская религиозность России, вызывает абсолютное неприятие Шпета. А на этой (кстати, вполне работавшей) мифологеме строилось понимание русской общинности как присущей внутренне христианской добродетели русского народа, а затем и коммунистические идеалы были восприняты Россией как просто иной тип христианского общежития.
Надо повторить, тем не менее, что именно христианство, а не античность, стало в России орудием сопротивления тоталитаризму. В ответ на заявления о закате демократической эпохи такие же «русские европейцы», как и Шпет, но находившиеся в эмиграции, выдвинули веру в возможность демократии на основе христианства. Имеет смысл привести высказывание Степуна 1956 г.: «Нет сомнения, что различные понимания христианства определяются разнообразием его переживаний; переживают же люди Христа и его учение по — разному потому, что они самим Богом созданы разными людьми. Нет спору — все люди созданы по образу и подобию Божиему, но каждый человек запечатлен иным Богоподобием. Быть подлинно человеком, т. е. личностью, значит быть личным сходством связанным с Богом, быть исполненным индивидуального Богоподобия. Земною проекцией индивидуального богоподобия является особость задания, которое Богом дается каждому человеку. Достоевский называет такое задание «идеей человека», но определяет эту идею не в платоновском, а в христианском смысле, как семя, бросаемое самим Богом в душу человека с требовательным ожиданием, чтобы он вырастил из него древо своей жизни. Из особого задания, с которым рождается каждый человек, вырастает его священное право требовать от ближних необходимой для осуществления этого задания свободы, а также и предоставления такой же свободы другим. Личность и свобода неотделимы. В их нерасторжимом единстве и коренится та верховная идея демократии, о которой шла речь выше» [1135].
Была у этих русских европейцев вера в то, что когда‑нибудь весь этот кошмар будет судим Божиим судом, истинным судом. В стихотворении Пастернака «Магдалина», обращаясь к раскаявшейся блуднице, Христос говорит всему человечеству:
7. «Наконец, явился Петр…»
Шпет все‑таки видел шанс России вернуться в Европу, связанный с Петровскими реформами и, прежде всего, с немецким языком. Поворот России к Западной Европе, вызвавший реформы Петра (или вызванный ими), полагал Шпет, — единственная историческая реальность, говорящая о способности народа к духовному возрастанию, к превращению его из этнографического материала в самосознающий субъект: «Когда созрело время для рождения русской культуры, пришлось русскому народу отсутствовавшее у него слово заимствовать у тех, кто от предков не отрекался, соблазна их не страшился и буквою не прикрывал своей духовной наготы. Еще раз чужой язык стал посредником между источником духа и русскою душою. Россия начала свою культуру с немецких переводов. И это есть новая Россия — Россия Петра — вторая Россия» [1136].
Сравним позицию Шпета с позицией Пушкина, которого он видел как единственного по — настоящему европейского и аристократического поэта в России. Именно Пушкин, во многом предваряя Шпета, писал: «Ученость, политика и философия еще по — русски не изъяснялась — метафизического языка у нас вовсе не существует» (6, 259) [1137]. Говоря, что Россия развивалась иначе, чем Западная Европа, Пушкин отнюдь не ликует: «Феодализма у нас не было, и тем хуже» (6, 323). Если националисты другую формулу русской истории по сравнению с западноевропейской воспринимают как положительный фактор, то Пушкин — как горестный. Он видел развитие европейское — в христианстве: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей- то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!» (6, 323). Как видим, в отличие от Шпета, европеизм он связывал с христианством. Но, как и Шпет, он верит в силу и деяние личности как фактора исторического движения.
Пушкин предлагает свою формулу России, русской истории, ее шанса вырваться из объятий горя — злочастья. И шанс этот он видит не в «пробуждении самобытного духа народа» [1138], его формула основана на вере в чудо христианского откровения и преображения. Тут же, в этих же заметках он говорит о том, что человек «видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» (6, 324) (курсив Пушкина). Именно Петр стал тем случаем, тем орудием провидения, тем перводвигателем, «кем наша двигнулась земля», кто удержал Россию «над самой бездной». Когда никто уже не ожидал спасения, когда страна вырождалась в бунтах и мелких интригах бояр, явился Преобразователь («наконец, явился Петр»), которого никто, никакой ум предвидеть не мог, ибо было это — явление, т. е. случай, для России случай спасительный. Отрицать дело Петра — отрицать шанс России вновь, после татарского погрома, стать европейской страной, когда не только по монастырям будут храниться «бледные искры византийской образованности», но образование станет достоянием всего народа. Не случайно Петр потребовал перевести из монастырей «главные доходы на школы, гошпиталя etc.» (8, 352). Сомнение в способности современной ему православной церкви к просвещению народа были у него с детства. Пушкин приводит в записках следующий эпизод: «1684 г., июня 1–го и 2–го Петр осматривал патриаршую библиотеку. Нашед оную в большом беспорядке, он прогневался на патриарха и вышел от него, не сказав ему ни слова. <…> Петр повелел библиотеку привести в порядок и отдал ее, сделав ей опись, на хранение Зотову, за царской печатью» (8, 25). Христианское просвещение Петр вынужден был взять под государственную опеку, на протестантский манер. Совершенно очевидно, что протестанту Шпету такая позиция была близка.