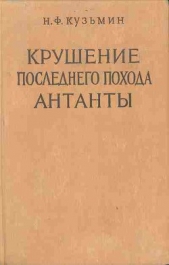«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов

«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов читать книгу онлайн
В книге В. К. Кантора, писателя, философа, историка русской мысли, профессора НИУ — ВШЭ, исследуются проблемы, поднимавшиеся в русской мысли в середине XIX века, когда в сущности шло опробование и анализ собственного культурного материала (история и литература), который и послужил фундаментом русского философствования. Рассмотренная в деятельности своих лучших представителей на протяжении почти столетия (1860–1930–е годы), русская философия изображена в работе как явление высшего порядка, относящаяся к вершинным достижениям человеческого духа.
Автор показывает, как даже в изгнании русские мыслители сохранили свое интеллектуальное и человеческое достоинство в противостоянии всем видам принуждения, сберегли смысл своих интеллектуальных открытий.
Книга Владимира Кантора является едва ли не первой попыткой отрефлектировать, как происходило становление философского самосознания в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А комментируя статью Киреевского, он высказывает и собственное понимание становления русской культуры, очевидно корреспондируя здесь со Шпетом, оживившим старую идею о нехватке в России классического наследия. Эту проблему, впрочем, понимали и Петр I, и Екатерина II, и даже Александр I, открывший лицей, где воспитался на античных произведениях среди скульптур Камероновой галереи возрожденческий Пушкин. Койре пишет: «Отсутствие классического наследия — вот беда России; им объясняются все особенности ее развития, бедность ее цивилизации. <…> Именно классическая культура делала возможным постоянное и органическое взаимодействие между многочисленными народами, составлявшими Европу, что делало всех их частями этого сверхнационального единства. Цивилизация народа измеряется не суммой познаний, не утонченностью и сложностью машины, именуемой societe civique (civitas, гражданственность, Bьrgertum), но лишь степенью участия его в человеческой цивилизации в целом, тем местом, какое он занимает в общем ходе человеческого развития. Ибо замкнутая цивилизация вроде китайской окажется столь же ограниченной, как китайская: у нее не будет ни жизни, ни ценности, поскольку будет отсутствовать прогресс; успех здесь достижим лишь общими усилиями человечества» (238–239).
Этими словами Койре, пожалуй, стоит закончить мое рассуждение. В них и констатация ситуации, и путь выхода из нее. Те из русских мыслителей, что сумели обрести независимость от властей и собственным усилием, как говорил Чаадаев, связать нить «семейственного предания», встроиться в контекст европейской философии, оказались носителями подлинного философского сознания, доказав своим бытием, что философия в России возможна. Разумеется, со всеми сложностями и противоречиями, которые присущи философии, как и любому живому явлению.
Глава 23 «Перед лицом русской истории ХХ столетия» (Сергей Аверинцев и Вячеслав Иванов [1076])
Есть такая точка зрения, что подлинная, настоящая биография любого писателя, мыслителя, поэта — в значительной мере автобиография пишущего о нем. Практически каждый исследователь культуры обращается не к одному герою, литературному или культурному, но рано или поздно, скорее сознательно, чем бессознательно, он выбирает своего, наиболее близкого ему — так ему кажется и так ему видится — по духу, позиции, даже стилю жизни, иногда даже смотрится в него как в зеркало, вот тогда‑то и возникают вершины биографической литературы. Ибо каждая такая работа (я говорю не о романах, а об исследованиях, а хороших их, ох, как немного!) является экзистенциальным событием. Пожалуй, не стоило бы искать в современной исследовательско — эссеистской литературе такого сочинения, да и не нашли бы, если бы не книга Аверинцева о Вяч. Иванове, где, кажется, поэт наконец нашел равного ему по уровню культуры и уровню владения словом (той речью, которую сам Сергей Сергеевич относит к речи «умопостигаемой» [1077]) истолкователя.
Кажется даже, что именно к своему будущему исследователю обращался поэт в одном из стихотворений «Римского дневника 1944 года»:
Но совсем ли своему? Ведь «кажется» еще не значит «есть». Так ли уж похожи исследователь и поэт? Действительно ли адекватны они друг другу? Немного забегая вперед, заметим, что дьявольщины, провокативности, лукавой игры со смыслами, которая достаточно характерна для поэта Вяч. Иванова, на мой взгляд, совсем нет у Сергея Аверинцева. И высочайший уровень культуры, и общая склонность к «средиземноморскому почвенничеству» еще не означают слияния позиций. Но вот отважиться на задачу объяснить жизненный и творческий путь поэта в наше время, пожалуй, в полной мере мог только Аверинцев. Сложность жизненной позиции Вяч. Иванова и интеллектуальная ясность объяснения автором биографии его героя, вырастающая в полемике с оппонентами поэта (правда, неназванными) и рождает экзистенциальную напряженность книги. Понятна социально — нравственная причина, позволившая исследователю предъявить нам путь поэта и мыслителя Серебряного века, свой век сильно пережившего, как некий образец. Понятна и любовь Сергея Сергеевича Аверинцева к поэту, прошедшему примерно ту же интеллектуальную школу: немецкой философии и античной культуры, школу, воплотившуюся в изысканное, но очень точное слово.
Автор представляет читателю (и очень убедительно) некое кредо, жизненную позицию, которая позволяет выстоять и сохранить достоинство в диком, жестоком, бессмысленном (всегда диком, жестоком, бессмысленном) мире. Таких позиций известно не так уж много, в христианстве главная — это позиция Христа. Но Его путь — это путь противостояния и нечеловеческого страдания. И понимая, что на крестный путь способен только человек глубокой веры, но отнюдь не всегда человек пера, исследователь предлагает нам еще один путь. Путь, как ему кажется, проверенный опытом ХХ века: «Не последний смысл истории — в том, что она освобождает ум от собственной фатальности: история как знание — от истории как претерпевания. <…> Речь идет о том самом качестве, которое сам поэт назвал своей “запредельностью”; и трудно отрицать, что перед лицом русской истории ХХ столетия сухие глаза и ясная голова — хотя бы оригинальнее, чем слезливость и бред, эти проявления несвободы» (14).
Для нас, современников Аверинцева, следивших практически за каждым его высказыванием, очевидно в этих словах кредо самого исследователя, всегда пытавшегося всем видам идеологических заклинаний противопоставить знание, точное, четкое, академическое знание. Но в книге прорываются и совершенно автобиографические интонации. Вот наугад первых два примера. Я помню опубликованный в одном из интервью рассказ Сергея Сергеевича о своем отце, человеке дореволюционной складки, с которым сын беседовал и который воспитал его в противостоянии советскому образу жизни и мыслей. А вот что он пишет о матери Вяч. Иванова (цитаты из высказываний самого поэта в книге закурсивлены): мать «“взлелеяла в душе идеал умственного трудолюбия и высокой образованности, который желала видеть осуществленным в своем сыне”. Кто знает по опыту власть подобных родительских пожеланий, которые, оставаясь по большей части невысказанными, исполняются куда непреложнее, чем прямые просьбы и приказания, — тот не дерзнет улыбнуться» (26). Другая аналогия рассказывает нам о том, как писал в советское время Аверинцев, что мы с благодарностью видели в его строчках и понимали, что за научной бесстрастностью живет свобода. Он и не скрывает переклички с жизненным опытом Иванова и пишет о «затаенности в крамольных мыслях, приучающей гимназиста Иванова также и к холодноватому, осторожному расчету, о коем без утаек повествует все то же “Автобиографическое письмо”: “Те же ученические сочинения, порой на скользкие для меня темы, возбуждали удивление друзей, посвященных в тайну моего мировоззрения, дипломатическою ловкостью, с которою я умел в них одновременно не выдавать и не предавать себя” (Это уже какой‑то почти позднесоветский опыт, до странности близкий моему поколению») (29).
Но исследователь чутко фиксирует и расхождения в нравственной, прежде всего в личной жизненной позиции, в жизнеповедении, правда, оговаривая жизненное экспериментаторство своего героя модой времени. Таков сексуальный опыт в духе Оскара Уайльда, о котором сам Иванов говорит достаточно глухо, но все же говорит. Этот опыт, по словам Аверинцева, лег в основу цикла «Эрос» в первом томе «Cor Ardens». Исследователь замечает по этому поводу: «Если когда‑нибудь Вяч. Иванов был вправду повинен в том, в чем его так часто упрекали — в недопустимо книжной стилизации устрашающе конкретных жизненных вопросов, — то, наверно, именно тогда. Очевидно одно: грубо ошибется тот, кто, в порыве ли морализаторских обличений или имморалистских дерзаний, редуцирует проблему до сексуальной. Слишком очевидно, что дело шло о психологических эксцессах и срывах вокруг исконно символистстской проблемы общения и общинности, об изживании утопии невиданного, небывалого приближения адептов новой “соборности” друг к другу, при котором все естественные межличностные дистанции будто сами собой исчезают» (80). Очевидно, однако, и другое: оправдание поэта временем и «бескорыстной сосредоточенностью на мире идей» (81). Аверинцев при этом ссылается на Степуна, но Степун отнюдь не однозначен в оценке Иванова. Впрочем, к этой теме я еще поневоле вернусь. Пока же замечу, что оскаруайльдовский казус и в самом деле был вполне в духе времени, как и другой жизненный поступок поэта: женитьба на своей юной падчерице Вере Шварсалон через несколько лет после смерти его жены Лидии Зиновьевой — Аннибал. «Брак этот, — как замечает автор книги, — вызвал немалый скандал в обеих русских столицах и множество пересудов, но поэт <…> переживал свое позднее счастье без тени демонизма» (с. 83–84). Кажется все же, что Аверинцев недоговаривает, что сам поэт видел свою непростую позднюю любовь грешной, с дьявольским искусом.