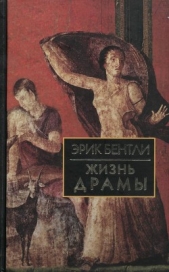Действенный анализ пьесы
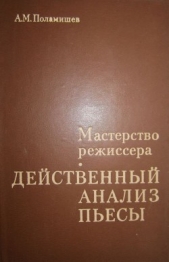
Действенный анализ пьесы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что же, минуту назад он не знал о том, как народ относится и к боярам, и к Годунову? Может быть, действия Воротынского есть следствие трусливого характера, жаждущего власти, но боящегося что-либо предпринять для этого? В таком случае все действия Шуйского направлены на то, чтобы снять всяческие опасения у Воротынского. Шуйский поэтому так откровенно высказывает свою ненависть к Годунову, чтобы призывать к действию против него. И это ему удается: Воротынский все более смелеет и, наконец, откровенно заявляет о правах наследия на трон. Правда, он вдруг неожиданно пасует. Если действие пьесы в этой сцене именно таково, то конфликтным моментом между боярами является нерешительность Воротынского. Иными словами, если бы не характер Воротынского, то они объединились бы с Шуйским и тогда неизвестно, чем бы кончилась история избрания Бориса на царский престол.
В таком случае первая сцена, вводящая нас в пьесу, говорит о том, что одной из важнейших причин избрания Бориса на власть было то обстоятельство, что среди бояр были подчас трусливые, никчемные люди, и потому боярство представляло собой разрозненную массу, не способную к объединению. Но в этом ли видел Пушкин причину удачи Бориса? И, вообще, эта ли проблема интересовала создателя «Комедии о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве, писанной рабом Божиим Александром сыном Сергеевым Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче»?
В этом первоначальном варианте названия пьесы есть указание на то, что речь идет прежде всего о «беде Московскому государству», а потом уже о царе Борисе. В самой пьесе бесконечны ссылки на «народ», на «мнение народное», на «народную волю» [55].
Мысль исследователей и практиков театра давно уже пришла к выводу, что в основе пьесы лежит проблема «народа и власти» [56]. И если этот вывод справедлив, то основной конфликт пьесы должен происходить между «народом» и «властью». Все действие пьесы должно вырастать именно из этого конфликта, т.е. действенно раскрывать мысль автора. В таком случае либо ошибаются все предыдущие исследователи либо конфликт между Шуйским и Воротынским и то, обнаруженное нами действие первой сцены, раскрывающее характер Воротынского, не относятся, очевидно, к единому, основному действию всей пьесы. Какое же из этих двух положений ближе к истине? Рассмотрим первое.
Если В. Волькенштейн прав, то, может быть, эта пьеса Пушкина относится именно к тем пьесам, где «в первом акте изображаются обстоятельства и нарастающие события, способствующие возникновению единого действия, но это действие еще не начинается»?
Если так, то, что же, начало пушкинской пьесы построено не столь мастерски, как у Шекспира? Но ведь сам Пушкин уверял, что он «расположил свою трагедию по системе Отца нашего Шекспира…» [57]. Пушкин множество раз указывает на то, что «Шекспиру я подражал» [58], что именно «изучение Шекспира…» [59] дало ему возможность создать его «Бориса Годунова» таким, каков он есть. Неужели же Пушкин пренебрег столь важной стороной «системы Отца Шекспира», как умение в самом начале пьесы создать такой конфликт, такое «действенное событие», которое сразу же через «единое действие» вводило бы в «основной мотив» (идею!) пьесы?! Неужели та часть диалога Шуйского и Воротынского, в котором они сообщают известные обоим предлагаемые обстоятельства, — это, по выражению Станиславского, именно та «скучная экспозиция, которая у малоопытных драматургов наивно производится в разговоре на авансцене двух действующих лиц»?! К таким драматургам Пушкина, естественно, никак отнести нельзя.
Теперь рассмотрим, насколько правомочно, истинно может быть второе положение, положение о четкой энергичной действенной основе так называемой экспозиции «Бориса Годунова». Для этого пойдем на следующее допущение, которое лишь поначалу кажется неожиданным.
Допустим, что оба героя спектакля (пьесы), Шуйский и Воротынский, обращаются к зрителям с целью убедить их в чем-то. В таком случае мы уже имеем дело с каким-то определенным действием, пусть не совсем привычным театральным действием, но все-таки действием! В таком случае вполне очевидно, что между представителями «высшей власти» — Шуйским и Воротынским и рядовыми зрителями не может не существовать конфликта. Правда, конфликт этот будет несколько необычен для общепринятых правил сцены, согласно которым конфликт обычно происходит между действующими лицами.
Насколько вышеприведенное допущение может опираться на реальные, историко-документальные факты? — Посмотрим.
В письме к Н. Н. Раевскому (от июля 1825 г.) Пушкин заметил: «С отвращением решаюсь я выдать в свет свою трагедию. и, хотя я вообще всегда был довольно равнодушен к успеху иль неудаче своих сочинении, но, признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а в ней я почти уверен…. Неуспех драмы моей огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы шекспировой, а не придворный обычай трагедий Расина и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены…» [60].
Отчего происходили опасения Пушкина относительно возможного неуспеха «Бориса Годунова»? Они были обусловлены мнением публики, привыкшей к придворным обычаям трагедии Расина, господствовавшей в то время, а не к «народным законам драмы Шекспировой»? Поэт отчетливо видел и понимал сословно-историческую ограниченность обветшавшей театральной эстетики своей эпохи; с горечью он писал:
«Трагедия наша… может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек? Как ей перейти от своего разговора, размеренного, важного и благопристойного, к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади?.. где, у кого выучиться наречию, понятному народу?» [61]
Итак, публика времен Пушкина не ведала «откровенного» разговора со сцены? И то, что хотел сказать поэт в своей драме, было чересчур «неблагопристойно» для ушей и умов света? Именно поэтому Пушкин был «почти уверен, что его «Борис Годунов» может оказаться «неудачным опытом» в «преобразовании нашей сцены»? Кроме того, можно ли было сбрасывать со счетов господствующие эстетические правила тогдашнего театра, которые были для поэта во многом неприемлемы?
Имеется немало свидетельств стремления Пушкина вырваться из тесных рамок этих правил. Так, далеко не случайными были его признания: «…правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что если докажут нам, что самая сущность драматического искусства именно исключает праводоподобие!» [62], «создавая моего Годунова, я размышлял о трагедии — и если бы вздумал написать предисловие, то вызвал бы скандал — это может бить, наименее понятный жанр. Законы его старались обосновать на правдоподобии, а оно-то именно и исключается самою сущностью драмы, не говоря уже о времени, месте и проч., какое, черт возьми, правдоподобие в зале, разделенной на две части, из коих одна занята 2000 человек, будто бы невидимых для тех, которые находятся на подмостках?» [63]
Здесь перед нами уже определенная позиция, выражающая не только драматургическое кредо поэта, но и его понимание искусства театра. Пушкин протестует против правил такого театра, в котором «будто бы невидимые» для актера зрители исключены из акта творчества актера. Для поэта «самой сущностью» драматического искусства является, очевидно, публичность актерского творчества. Пушкинские высказывания подводят нас к определенному стилю актерской игры, «способу существования» актера в таком театре, для которого, очевидно, и написан «Борис Годунов». Это театр откровенной театральности с элементами площадной сцены, где зрители не только чувствуют, что они находятся в театре, но и постоянно втягиваются актерами в само театральное действо.