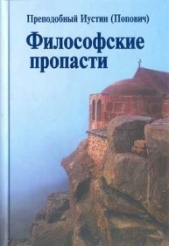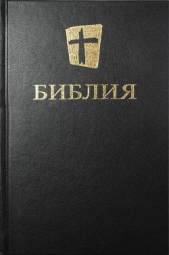Мифология богини

Мифология богини читать книгу онлайн
Данное исследование ставит своей задачей описание основных параметров системы представлений, характерных для эпохи так называемого `матриархата`. До сих пор факт существования подобной системы находился вне поля зрения ученых, что, по сути, лишало смысла любые теоретические исследования в области мифологии. Между тем, по мнению автора, реконструкция `идеологии матриархата` вполне возможна при соблюдении одного условия чисто негативного характера - следует отказаться рассматривать мифологию непременно сквозь призму тех или иных, более или менее фантастических концепций и ограничиться при ее исследовании чисто логическим анализом. Эффективность подобного метода автор демонстрирует на материале `Одиссеи` (V-ХIII песни), предстающей при подобном подходе как вполне связное (разумеется, с содержательной, а не с формальной точки зрения) и осмысленное целое. Читателю предоставляется возможность убедиться в том, что `Одиссея` излагает, по сути, основные, `системообразующие` мифы `идеологии...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К третьей линии мы отнесем все, что непосредственно касается царства Аида; о «линии», правда, в данном случае можно говорить только условно, поскольку перед нами, скорее, «вереница» представлений, соединенных более или менее произвольно. Попытаемся рассмотреть их по порядку.
Первое, что привлечет наше внимание, – тема «призраков»: Одиссей не только беседует с умершими, но и видит их тени. Этот момент, не заключающий в себе прямого противоречия второй смысловой линии, – нечто подобное, «согласно непроверенным источникам», происходит и на медиумических сеансах – тем не менее выходит далеко за ее пределы, поскольку «тени умерших» можно видеть, например, во сне и т. д. Отношение этих «теней» к конкретным индивидуумам, от имени которых они выступают, уже и в древности представлялось весьма неоднозначным: мы видим, как Одиссей, беседующий с тенью матери, выказывает определенные сомнения в том, что перед ним действительно именно его мать. Подобную позицию нельзя не признать разумной, поскольку между «призраками» и «душами» в собственном смысле слова существует вполне очевидное различие; вопрос об их возможной «взаимосвязи», теоретически допустимый, на практике благоразумнее было бы в большинстве случаев решать отрицательно.
Беседу с тенью матери здесь пересказывать нет необходимости – это тема «сугубо личная». В следующем эпизоде мы наблюдаем, как у Одиссея неожиданно просыпается интерес к истории и он вступает в долгие, нескончаемые разговоры со знаменитыми женщинами прошлого: Тиро, Антиопой, Алкменой, Эпикастой, Хлорис, Ледой, Ифимедеей, Федрой, Прокридой, Ариадной, Майрой, Клименой, Эрифилой и т. д., – так что в конце концов возникает невольный вопрос: «А что, больше поговорить не с кем? Как же Агамемнон, Ахилл, – можно ли предполагать, что сухие историко-мифологические экскурсы интересуют Одиссея больше, чем недавние боевые товарищи?» Впрочем, проблемы цельности и психологической убедительности образа, как правило, крайне мало занимают компиляторов: эпизод со «знаменитыми женщинами» представляет собой очевидную позднюю вставку, принадлежащую некоему анонимному «любителю старины», который едва ли руководствовался каким-либо иным принципом, кроме элементарного желания «добросить до кучи». Поэтому мы не будем здесь задерживаться и перейдем к эпизоду с Агамемноном, на которого Одиссей наконец-то «соизволил обратить внимание».
Если тема «встречи двух старых боевых товарищей» и предполагает романтический тон, то в данном случае этот тон весьма умеренный, поскольку общего между товарищами не так уж много. Оба они «вожди военной дружины» (надеемся, что читатель, знакомый с предыдущей главой, найдет это словосочетание достаточно красноречивым), однако отношение их к «прежним традициям» можно назвать диаметрально противоположным. К Одиссею богиня в любой своей ипостаси (а их в поэме не так уж мало) относится безусловно благосклонно и даже не без некоторой пристрастности, без отклика, разумеется, не остающейся; Агамемнон, напротив, вождь однозначно «нового типа» и без всякой уже «оглядки на старое»: с богинями он церемониться не склонен (история его отношений с Артемидой весьма показательна), но зато и сам должен погибнуть от руки женщины – собственной жены. Рассказ о его убийстве Клитемнестрой представляет собой, по сути, новую версию мифа о богине смерти, облеченную в «бытовую форму», и жалобы Агамемнона Одиссею весьма характерны: «Мы-то думали, что нас позвали на пир, а у нее, у подлой, Другое на уме было: перерезала она с дружком своим нас, как свиней, прямо за столами. И что, Одиссей, особенно обидно: когда я там в крови на полу валялся – даже не поглядела, бесстыжая, в мою сторону, даже глаза мне не захотела закрыть!» Клитемнестра, приглашающая на пир, представляет собою сниженный вариант Кирке (отметим также и весьма характерное уподобление ее гостей свиньям), однако общий тон истории весьма отличает ее от первоначального мифа. Агамемнон видит ситуацию односторонне: для него богиня смерти – только «коварная обманщица» и ничего больше; другая ее сторона, «сторона жизни», остается недоступной восприятию Агамемнона (и в этом его принципиальное отличие от Одиссея). Для такого героя дом Аида – вполне законное и естественное место, откуда можно уже с полным правом наставлять своего бывшего соратника в духе новой философии: «Так что запомни, дружище: даже с собственной женой разводить любезности особо не стоит. Что думаешь – то и думай про себя, а всего ей знать не надо...» Здесь, однако, Агамемнон спохватывается: «Впрочем, зачем же я, Одиссей, тебе это говорю! Тебе не суждено быть убитым женщиной, и Пенелопа твоя благоразумна и рассудительна», – что надо понимать, очевидно, в том смысле, что перспектив дальнейшего продолжения данный диалог не имеет.
После того как Агамемнон уходит, к Одиссею приближается тень Ахилла. Ахилл не скрывает своего удивления:
Как же осмелился ты в дом Аида спуститься, где героев, уставших от битв, прозябают бессмысленно тени, –
эти слова обычно принято рассматривать с «этнопсихологической» точки зрения, – как характерное описание загробного мира в представлении именно греков; однако подобная точка зрения, на наш взгляд, глубоко ошибочна, поскольку речь в данном случае идет не об этнической, а о «классовой» психологии, – о психологии военной дружины «как класса». Отметим, что крайняя безотрадность нарисованной Ахиллом картины указывает на ранний этап воинской мифологии, тогда как «вежливо-утешительный» ответ Одиссея подразумевает этап уже более поздний:
Не было, нет и не будет счастливей тебя человека, ибо живого, Ахилл, мы как бога тебя почитали, – ныне же, мертвый, ты мертвыми повелеваешь.
Между ранним и поздним этапами – пусть даже в данном случае и «сосуществующими» – налицо тем не менее явное противоречие: какими, собственно, мертвыми повелевает Ахилл, если кругом «бессмысленные тени?>? Идея «царской власти», «авторитета царя» заведомо не находит
опоры в такой среде: ведь теням, как говорится, «все равно». Однако воинская идеология, склонная абсолютизировать иерархический принцип, отнюдь не может смириться с «безразличием теней»: естественный предел, ограничивающий действие законов субординации, должен быть преодолен, по ее мнению, любой ценой, – пусть даже для этого и понадобятся сугубо противоестественные средства. На похоронах Патрокла, друга Ахилла, были зарезаны двенадцать пленников – «свита», призванная уберечь достоинство воинского ранга от «холодной аморфности» загробного мира. Статус самого Ахилла был, естественно, более высоким, чем у Патрокла, и пленников на его похоронах зарёза-ли, надо полагать, тоже больше; добавим сюда троянку Поликсену, убитую в качестве «посмертной наложницы», – и слова Одиссея приобретут для нас вполне реальный смысл: действительно, можно говорить уже и о «царстве» – пусть даже и небольшом. Впрочем, история знает примеры и не таких уж небольших «царств» подобного рода.
Заметим, что вышеуказанная тенденция не получила развития в рамках греческой цивилизации – и на сей раз это уже действительно чисто «этническая» черта. Несмотря на все утешения Одиссея, Ахилл отнюдь не считает себя счастливым:
Нет, Одиссей, не пытайся меня утешить ты в смерти: на мужика, что в деревне последний, батрачить и то было б лучше, чем над мертвыми царствовать – хоть и над всеми.
Эта достаточно рано и достаточно четко заявленная позиция объясняет, почему в Элладе – в отличие от Египта, империи инков или социалистических государств XX века – не получила развития идеология «мертвого, но вечно живого царя». Ахилл, как известно, – «герой» (в греческом понимании этого термина); «герои» же, согласно верному указанию Ф. Ф. Зелинского, делятся на две категории: «герои-святые» и «герои-упыри» – причем представление о последних «становится даже преобладающим... на низах общества. Отметим в приведенной цитате ключевое, на наш взгляд, слово «преобладающим»; то, что концепция второго рода преобладает «на низах общества», не имеет, по нашему мнению, принципиального значения, поскольку архаические представления нередко сохраняются именно там.