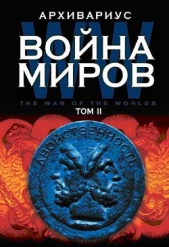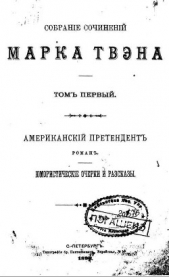Умирание искусства

Умирание искусства читать книгу онлайн
В.Вейдле (1895-1979) - известный писатель и историк культуры первой русской эмиграции. Его высоко ценили не только И.Бунин, Б.Зайцев, В.Ходасевич, но и западные поэты и мыслители - П.Клодель, Э.Ауэрбах и др. Эрудит, блестяще владевший четырьмя языками, он отличался оригинальностью, остротой и резкостью своих суждений об искусстве, литературе, обществе.
В настоящем сборнике отечественный читатель познакомится с наиболее значительными сочинениями В.Вейдле: «Умирание искусства» (1937), «Рим: Из бесед о городах Италии», статьями разных лет о русской и западной культуре XIX - XX вв.
Для тех, кто интересуется вопросами эстетики, философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сорок два года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали (трудно в этом сомневаться) лишь часть написанного ею за эти годы. Но этого достаточно. Предполагаем, что думала о нас, здешних, ставила себя на наше место (например, когда писала стихотворение свое – одно из лучших ею написанных – о Лотовой жене). Знаем, что не осудила. Знаем еще тверже: и нам благодарить ее надо за то, что она осталась там.
Даже и почерк стал как будто побойчее. Литератором пришлось сделаться; не банально, положим, а достойно (писала о Пушкине, да и так, что дай Бог всякому "пушкинисту"). Переводами пришлось заняться, не всегда по своему выбору, не всегда с языков, ей известных. Пришлось выслушивать окрики невежд, и хуже, чем невежд (свирепейшего из них, Жданова, помянули казенной хвалой за несколько дней до ее смерти). Пришлось молчать, – и вообще молчать, – и молчать, когда замучен был Мандельштам, когда повесилась Цветаева. Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать – в стихах, в стишках… Многое пришлось. Но если бы не осталась, кто бы тогда написал:
Кто бы написал "А вы, мои друзья последнего призыва…" или "Постучи кулачком – я открою…" или вообще встретил "Ветер Войны" – еще раз – как поэт, а не как столькие другие, всуе именуемые этим именем? Кто бы "Реквием" прорыдал, свою жизнь, свою муку ни от чьей жизни, столь же мучимой, не отделяя? "В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях". Это и дает ей право сказать, что тогда и все эти годы она была "Там, где мой народ, к несчастью был". Поэтому уже и поставлен ей памятник всеми нами, теми, кто, потеряв Россию, людьми остались, в России или не в России; поставлен не где-нибудь,
Не повидал я Анну Андреевну перед ее кончиной. Приезжала в Париж, но меня в те дни тут не было. Очень об этом жалею и даже этого стыжусь. Немножко вроде как того стыжусь, что два месяца в Петербурге лежал у меня на столе ее альбом, куда вписывали ей стихи, скромный, небольшой в темном кожаном переплете, какие бывали не у поэтов, а у барышень; два месяца лежал, и не решился я ничего туда вписать; так ей и вернул.
Вижу ее теперь, то в чем-то сереньком, тощенькую, ту, которой милостыню подала старушка; то высокую в белом, при свете люстр, сверканьи хрусталей. И когда в белом, словно венчик чудится мне над ней. Не венчальный, не царский… Верно, из лавров сплетенный? Нет, – прозрачней, светлее: едва ли не мученический венец.
1966
НАСЛЕДИЕ РОССИИ
Россия была. Взгляните на карту: нет на ней больше такой страны — Россия. Если же кому все равно, называть свою родину ее именем или нет, то и столь суконное равнодушие к слову еще не даст ему права утверждать, что произрастает на этих четырьмя буквами объярлыченных просторах неоскудевшее и неискаженное продолжение того, что на них произрастало в былые времена. Не о государстве мы говорим или «общественном строе», и не о русском житье-бытье называлось Россией и другое, главное. Когда скажешь «Франция», подумаешь прежде всего не о трех династиях, двух империях, пяти республиках и не о нравах и модах, не о феодализме или «классовой борьбе», а о том, что означает Франция для Европы и для мира. Так и Россия. О том особом мы думаем, что она значит для нас и не для нас (а не о том, что значит любая земля для того, кто ею рожден и выкормлен). О том, чего нет у других, и что, будучи личным, достойным имени, как раз и не терпит ярлыка. О России, которую осязаем душой, когда видим, слышим, читаем созданное ею. Эта Россия была. Осталось ее наследие.
Разрыв преемственности
…как будто и весь род русский только
вчера наседка под крапивой вывела.
Лесков
Наследство получают от тех, кого больше нет. Но чередование рождений и смертей, образующее историю, совершается непрерывно и само по себе никаких единовременных передач общего достояния ото всех отцов ко всем сыновьям не предполагает. Если мы говорим о наследии России, то лишь потому, что ощущаем перерыв — не в совокупности ее духовного бытия, но во всем или в очень многом из того, что ему дает своеобразие, что составляет лицо России. Сюда не входят математические и строго экспериментальные науки, науки, управляющие техникой или (на естествознании основанной) практикой (врачебной, например). О них мы не скажем ничего. Во-первых, потому, что никакого перерыва тут не произошло, а во-вторых, потому, что вся эта область духовной жизни рассудочна (построена на точно доказуемых данных) и тем самым универсальна; ничего свойственного одной России в ней нет и не может быть. (Русские физики или медики могут являть в своей научной деятельности национальные черты, но не сама названная по ним и по их стране «русской» физика или медицина.) Речь у нас не об этом, а о самом русском в России, о языке, литературе, искусстве, и не столько даже о них самих, сколько о мысли, которая их питала, которой Россия жила и которая с разной степенью силы выражалась также и во всех тех науках, где вычисление или эксперимент могут играть лишь второстепенную роль. Здесь разрыв и произошел. Здесь и была нарушена преемственность. Преемственность — непреложный закон истории; вернее сказать, самого человеческого бытия. Первый показатель этого — язык, который не выдумывается заново каждым новым поколением (оттого, что выдуман быть не может: дитя, рожденное глухим» остается тем самым и немым), не передается сам собой путем биологической наследственности, а усваивается через преподавание, материнское большей частью, то есть именно не передается, а преподается — старшим поколением младшему. Преподавание и есть основа всякой предания, а основа всякого преподавания есть передача языка. Тем более, что ведь при передаче слов передаются не одни их звуки, но и смыслы, а тем самым и образ мира, в этих смыслах заключенный, ими отраженный. Не будь у нас этих смыслов, мы не были бы людьми.
Всякую преемственность можно представлять себе по образцу передачи языка; можно, да и должно, так как это помешает нам представлять ее себе слишком упрощенно. Она не есть простое продолжение, продление. Русские говорят по-русски не совсем так, как говорили их деды и даже отцы. С каждым поколением меняется устный язык; письменный более устойчив. Но и продольные сечения обнаруживают различия не слабее поперечных. Люди одного поколения не все говорят одинаково, и не все обладают тем же запасом слов. Спокон веку детям пекарей знакомы многие слова и речения, не знакомые детям мясников, и наоборот. Такие вариации бесчисленны, но и очень различны по значению. Преемственность не являет собой чего-то сплошного, однородного; она состоит из множества не без труда уживающихся между собой традиций или преданий; и не исключает она обновлений и перемен, а напротив требует их, ими живет. Она предполагает усвоение новым поколением того, что ему передается, а значит, и обновление, хотя бы частичное, переданного; но предполагает она все же и непрерывность этой передачи, непрерывное наследование меняющегося наследия.