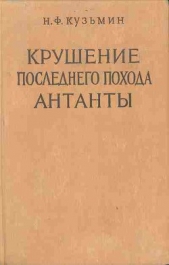«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов

«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов читать книгу онлайн
В книге В. К. Кантора, писателя, философа, историка русской мысли, профессора НИУ — ВШЭ, исследуются проблемы, поднимавшиеся в русской мысли в середине XIX века, когда в сущности шло опробование и анализ собственного культурного материала (история и литература), который и послужил фундаментом русского философствования. Рассмотренная в деятельности своих лучших представителей на протяжении почти столетия (1860–1930–е годы), русская философия изображена в работе как явление высшего порядка, относящаяся к вершинным достижениям человеческого духа.
Автор показывает, как даже в изгнании русские мыслители сохранили свое интеллектуальное и человеческое достоинство в противостоянии всем видам принуждения, сберегли смысл своих интеллектуальных открытий.
Книга Владимира Кантора является едва ли не первой попыткой отрефлектировать, как происходило становление философского самосознания в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На русском языке выходили его статьи в разных эмигрантских журналах, вышли книги воспоминаний, но представление о Степуне — мыслителе имели прежде всего немцы. С полным на то основанием. Г. П. Федотов на первую историософскую книгу своего сотоварища по изданию «Нового Града», вышедшую на немецком языке, откликнулся следующими словами: «Тем из наших читателей, кто знает лишь русского Степуна, скажем, что, по- видимому, немецкий язык дает полную меру всех возможностей его стиля. Этот пьянящий кубок, где философские абстракции играют и искрятся с легкостью, не отнимающей ничего у глубокой, порой трагической серьезности, только и возможен для языка Гёте и Ницше. Степун владеет им, как артист и как мыслитель» [894].
Как и Кожев, как и Койре, Степун еще требует внимательного прочтения и перевода на русский язык, ибо даже в тех немецких текстах, которые суть перефразировка его старых русских статей, он внес довольно много нового и поднимающегося над ситуативной проблематикой первопубликаций. В глазах многих ставший знаменитым немецким писателем, «равным по рангу таким духовным выразителям эпохи, как «соразмерные» ему Пауль Тиллих, Мартин Бубер, Романо Гвардини, Пауль Хекер и др.» [895], он писал прежде всего о России, хотя немецкий опыт был также его постоянной проблемой, более того, грундфоном его российских размышлений.
На кончину Степуна откликнулось около полусотни немецких журналов и газет. Для немцев он был воплощением, можно даже сказать, символом свободной русской мысли, писателем и философом, который не отказался от своей культуры, не растворился в западноевропейской жизни, а остался русским, но — русским постпетровской эпохи.
Находясь на Западе, он чувствовал себя внутри родственного ему культурного пространства. По словам его ученика, «для Степуна, Россия — это Восточная Европа, а не Западная Азия, или даже Евразия. Хотя он был в известное время под сильным влиянием историософских построений Освальда Шпенглера, о котором написал замечательную статью, Степун всегда отвергал представление немецкого мыслителя о том, что русский дух в своих корнях абсолютно противоположен европейскому. Не принял Степун и идеологии евразийцев [896], несмотря на то, что некоторые их идеи произвели на него сильное впечатление. По всему своему существу он был от головы до ног олицетворением того не очень распространенного человеческого типа, который называется русским европейцем — определение, в котором прилагательное столь же важно, как и существительное» [897].
Разумеется, тип этот был уже распространен в русской культуре: отсчет можно вести от Пушкина, вспомнить и Чаадаева, и Тургенева, и Чехова, очень много людей этого типа оказалось в эмиграции — как забыть Бунина, Милюкова, Федотова, Вейдле!.. Их положение среди эмигрантов из большевистской России — подыгрывавших большевикам евразийцев, ничему не научившихся оголтелых монархистов, винивших в российской катастрофе прежде всего Европу, — было, быть может, особенно сложным. А в их любимой Европе наступал на демократию фашизм. В передовой статье первого номера «Нового Града» (1931) Федотов писал: «Уже репетируются грандиозные спектакли уничтожения городов газовыми и воздушными атаками. Народы вооружаются под убаюкивающие речи о мире дипломатов и филантропов. Все знают, что в будущей войне будут истребляться не армии, а народы. Женщины и дети теряют свою привилегию на жизнь. Разрушение материальных очагов и памятников культуры будет первою целью войны. <…> Путешествие по мирной Европе стало труднее, чем в средние века. “Европейский концерт”, “республика ученых” и “corpus christianum” кажутся разрушенными до основания. <…> В Европе насилие, — в России кровавый террор. В Европе покушения на свободу, — в России каторжная тюрьма для всех. <…> Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы — прежде всего свободы духа» [898].
На что они рассчитывали? Голос их не был слышен — ни в Европе, ни тем более в России. В буржуазной Европе, среди русских эмигрантов, по преимуществу, монархистов, они оставались социалистами, но в отличие от западноевропейских просоветских левых они утверждали христианство как основу европейской цивилизации. И в ответ на заявления о закате демократической эпохи — веру в возможность демократии на основе христианства. Имеет смысл поставить рядом два высказывания Степуна (не раз при том говорившего о беспомощности демократии в России и Германии): «Я определенно и до конца отклоняю всякую идеократию коммунистического, фашистского, расистского или евразийского толка; т. е. всякое насилование народной жизни. <…> Я глубоко убежден, что «идейно выдыхающийся» сейчас демократический парламентаризм Европы все же таит в себе более глубокую идею, чем пресловутая идеократия. Пусть современный западно — европейский парламентаризм представляет собою вырождение свободы, пусть современный буржуазный демократизм все больше и больше скатывается к мещанству. Идущий ему на смену идеократизм много хуже, ибо представляет собою нарождение насилия и явно тяготеет к большевицкому сатанизму» [899]. Противостоит же этому сатанизму «Божье утверждение свободного человека, как религиозной основы истории. Демократия — не что иное, как политическая проэкция этой верховной гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает лицо человека как верховную ценность жизни и форму автономии, как форму богопослушного делания» [900].
Но в эти годы о лице, о человеке думали все меньше и меньше. Мрачные фантасмагории Кафки о человеке, уничтожаемом всем составом угаданного писателем народившегося нового мира, — точный портрет эпохи. Но если Кафка — это сейсмограф ХХ века, фиксатор ситуации, то русские мыслители — эмигранты пытались понять причину, из‑за которой «в преисподнюю небытия» (Степун) обрушилась Россия, а за ней и другие европейские страны. И не просто понять, но и найти некую интеллектуальную защиту против ужаса, поднимавшегося из этой преисподней, из этой пропасти, из этого провала. Однако повторим вопрос: на что они рассчитывали? Но добавим к нему и второй.
2. Почему нам все еще интересна философская мысль русской эмиграции
В 1961 г. Георгий Адамович так оценил итоги русской эмиграции: «У нас, в эмиграции, талантов, конечно, не больше. Но у нас осталась неприкосновенной личная творческая ответственность — животворящее условие всякого духовного созидания, — у нас осталось право выбора, сомнения и искания» [901].
Они сохранили для русской мысли то, без чего немыслимо духовное творчество, — идею свободы. В уже цитированной передовой статье из «Нового Града» Федотов замечал, что, если хоть некоторые из пишущихся ими страниц дойдут до России и помогут хоть кому‑нибудь, они будут считать себя сторицей вознагражденными за свой труд. Страницы дошли. Но чтобы они могли помочь, их надо прочитать и усвоить преподанный нам урок духовного мужества и верности свободе личности, а стало быть, и делу философии.
В программной статье (предисловие к первому номеру «Логоса», совместно с С. Гессеном) Степун писал, что философии необходимо предоставить «полную свободу саморазвития и самоопределения, ибо философия — нежнейший цветок научного духа, и она особенно нуждается в бескорыстности ее задач» [902], только тогда она разовьет в себе и культуре освобождающие силы. Утверждение философии как надидеологической, в том числе и надконфессиональной, сферы деятельности было безусловной заслугой оставшихся философами и в эмиграции Бердяева, Франка, Степуна, Федотова (никто не упрекает, скажем, ставшего из философа богословом С. Булгакова, но это уже другая судьба и другая проблема).