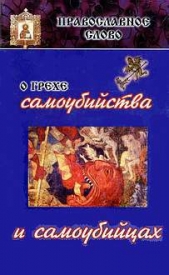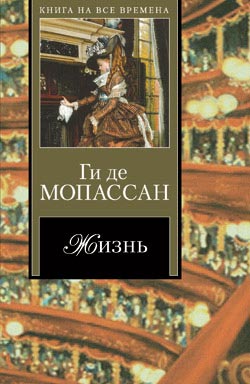Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали

Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали читать книгу онлайн
Эта книга — серия портретов писателей советской поры: Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Александра Фадеева и Юрия Олеши, Сергея Михалкова и Александра Твардовского, Валентина Катаева и Николая Эрдмана. Портреты — разные: есть обстоятельно писанные маслом, есть летучие графические зарисовки, есть и то, что можно счесть шаржем. И в то же время это — коллективный портрет, чьи черты дают представление о некоем общем явлении, именуемом «советский писатель». Или — «советский интеллигент». В книге рассмотрены сугубо отдельные, индивидуальные судьбы. И в то же время — судьба, общая для многих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Год написания — 1944-й. Автору — девятнадцать лет…
Итак, как нам объяснили, Хрущев боялся интеллигенции «совершенно напрасно». А она, интеллигенция, зашоренная иллюзиями, всего лишь возродила «утопию». Да какую — «сталинскую»!
Это не так. Хрущевская боязнь, как и хрущевский гнев, были совершенно законны. Для того чтобы захотеть союза с интеллигенцией — союза, так сказать, конфедеративного, — Хрущеву надо было стать правителем категорически иного типа.
Не быть коммунистом.
Не верховодить в СССР.
Не быть самим собою, Хрущевым.
Правда, замечу: трудно представить и самого что ни на есть демократического главу любого из государств, который, даже искренне пожелав опоры на интеллигентов, все же не относился бы к ним с опаской. Как к чужеродному, плохо предсказуемому слою, который никак не умеет смириться с границами политики, «искусства возможного». Норовит выхлестнуть за пределы целесообразности. И больше того: именно это свойство интеллигенции, ее раздражающий критицизм и оскорбительный скепсис насчет правительственных начинаний, — и есть исполнение ее своеобразного долга перед народом и государством.
Это я говорю о демократии — уж конечно, не в российском нелепейшем варианте. А «последний романтик» Хрущев…
Личный опыт — не самый сильный из аргументов, и все же припоминаю себя и свою сравнительно молодую компанию, сгруппировавшуюся вокруг «Литературной газеты» 1959–1961 года, периода ее недолгого либерального взлета. (Либерального — даже если он и казался революционно-демократическим.)
Никто из нас…
Хотя сначала — о том, кто это «мы». Если называть имена, говорящие нечто нынешнему читателю, это: тот же Булат Окуджава, тот же Наум Коржавин, Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Георгий Владимов, Борис Балтер, Владимир Максимов, очень близко — Фазиль Искандер, Василий Аксенов, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Олег Чухонцев… Люди, словом, в ту, молодую для них для всех пору очень разные. И ни один не верил в продолжительность «оттепели», то есть в Хрущева.
Наоборот. Удивлялись, что это продолжается так долго. Торопились весело надышаться, как — разрешу себе красочное сравнение — каторжники-декабристы, которых неспешно переводили из острога в Чите до острога в Петровском Заводе, от тюрьмы до тюрьмы. Переводили весенним, цветущим Забайкальем, так что этот затяжной глоток свободы они всю жизнь поминали как счастливейшие свои дни.
А в наших застольях излюбленным был принесенный откуда-то или им самим сочиненный тост все того же Наума Коржавина:
— За успех нашего безнадежного дела!
Последние годы хрущевского владычества, когда одно слово «интеллигент» вызывало у «Никиты» судороги ненависти, были ужасны, непристойны, вульгарны. Но — не неожиданны, и помню свое первое ощущение при известии о свержении Никиты. Ощущение несправедливое, неразумное, но неизбежное:
— Так и надо!..
Знал ведь, даже в это мгновение помнил и понимал: будет хуже. И все-таки:
— Получай, что заслужил!..
А жалость пришла к поверженному. Потом.
«Конфликт с властью обозначил кризис шестидесятничества» (та же статья). И снова — не то!
Конфликт был изначален, без него и самого «шестидесятничества» — если смириться с условнейшим термином — попросту не было бы. Так что нисколько не ошибались те, кто крушил Окуджаву (или уже не сажал, но еще не печатал Коржавина), несмотря на его элегических комиссаров. И сам Хрущев был интуитивно, но безукоризненно прав, замахиваясь на «Заставу Ильича».
Чтó предстало в фильме Марлена Хуциева — да, не возразишь, сквозь романтическую оболочку? (Которая, очень возможно, самому режиссеру казалась первостепенно важной — как то, что дает существованию форму, охраняя его от распада.) Неприкаянная троица друзей. Отдельная, частная жизнь их неудовлетворенных душ в отъединенности от шумной фасадной жизни — и скорее броским контрастом, не уменьшая горечи, а умножая и оттеняя ее, выглядел эпизод коллективного братания в Политехническом.
Не странно ли, что именно он чуть не более прочих рассердил и испугал начальство? Нисколько, потому что: единение, коллектив — это прекрасно, но только тогда, когда они сплочены волевым посылом, посланным сверху. Если это первомайская организованная демонстрация, а не стихийное сборище — хотя бы и во славу самого Гагарина (были такие — и, представьте себе, пресекались).
Фильм Хуциева получил свое по заслугам, а не по хрущевской несообразительности. Он противостоял не только казенщине, не только тем из шестидесятников, кто, как Роберт Рождественский, попытался стать голосом государства (и оно, поворчав, присмотревшись, прислушавшись, разрешило ему вещать от своего имени), но даже и тем, кто, всего только приспособившись к официозу, мирным пикничком располагался у его стен и бойниц.
Допускаю, что я не прав, но признаюсь: мое отношение к Геннадию Шпаликову, сценаристу фильма Хуциева, было навсегда подорвано тем, что он, почти одновременно с «Заставой», мог сочинить сценарий беспечной комедии «Я шагаю по Москве». Будто нарочно, демонстративно явив нравственную разнополярность неоднородного поколения — в самом себе, в единой своей душе явив, в том-то и дело. Снова три друга, три молодых москвича, но — «нет проблем», только очаровательно-молодежно-безмозглая общность…
Снова и снова: конфликт «шестидесятничества» и власти зависел не только от породы и природы якобы недогадливой хрущевской верхушки. Он был предрешен и породой-природой интеллигенции — какой-никакой, ломаной-переломаной и, хуже того, гнутой, однако все-таки сохраняющей свои родовые признаки. Интеллигенты не то чтобы не желали (порою очень даже желали, подчиняясь позывам смертной, слабой, пуганой плоти) усвоить резоны власти — они оказывались не способны на это.
По крайней мере — малоспособны. И вот одна из причин: простак, подверженный и иллюзиям, и страху, но воспринимающий жизнь абстрактно (что в переводе на нормальный язык означает — с точки зрения вечных человеческих ценностей), — этот самый простак если кому-то и мешал больше всего, так это романтику. Тому, кто понимает жизнь «в ее революционном развитии», требуя от нее не того, что свойственно жизни, а того, что нужно ему. И именно в простаке безошибочно чует основную помеху для торжества своего романтизма — в нем, а, уж конечно, не в подыгрывающих романтику циниках…
Вспомним малый, частный конфликт телечиновника с телережиссером, где гнев первого так же естествен, как простоватая непонятливость второго:
— Это какой-то Зощенко!..
— Почему «какой-то»?
Ему, простаку, говорят без обиняков: ты клеветник на нашу действительность, как Зощенко, поделом разоблаченный товарищем Ждановым. А он обижается на «какого-то». На то, что о друге его родителей Михаиле Михайловиче, в чью честь они его и назвали, говорится небрежно и неуважительно.
Опять разговор двух глухих, как было (бери много выше!) у товарища Сталина с Пастернаком:
— Я так давно хотел с вами встретиться и поговорить…
— О чем?
— О жизни и смерти.
Обрыв связи.
Но при всем немереном расстоянии от могущественного вождя до чиновника средней руки застойной эпохи (как и от гениального Пастернака до талантливого режиссера) произошло нечто очень значительное и совершенно необратимое. Сегодня «встретиться и поговорить» может захотеть не простак, а циник — и говорить будет, конечно, не о жизни и смерти.