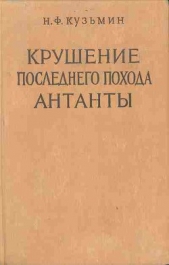«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов

«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов читать книгу онлайн
В книге В. К. Кантора, писателя, философа, историка русской мысли, профессора НИУ — ВШЭ, исследуются проблемы, поднимавшиеся в русской мысли в середине XIX века, когда в сущности шло опробование и анализ собственного культурного материала (история и литература), который и послужил фундаментом русского философствования. Рассмотренная в деятельности своих лучших представителей на протяжении почти столетия (1860–1930–е годы), русская философия изображена в работе как явление высшего порядка, относящаяся к вершинным достижениям человеческого духа.
Автор показывает, как даже в изгнании русские мыслители сохранили свое интеллектуальное и человеческое достоинство в противостоянии всем видам принуждения, сберегли смысл своих интеллектуальных открытий.
Книга Владимира Кантора является едва ли не первой попыткой отрефлектировать, как происходило становление философского самосознания в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Замятина есть небольшие рассказы: «Мамонт», «Пещера», «Дракон», о том, как люди после революции превращаются в троглодитов. Откуда же разум в государстве Благодетеля? Можно пойти по вульгарному пути, предположив, что троглодиты — те, кто за кремлевской стеной, а машину строят те, кто внутри.
Накануне романа «Мы» в 1919 г. он пишет статью «Завтра», где очень четко расставляет акценты. Он не против будущего, но он реалист, или, если угодно, как он сам себя называл, «неореалист». Поэтому главное оружие свободного человека, по его мнению — это разум, это слово, т. е. Логос. Он выступает как наследник русской интеллигенции, выраставшей на текстах классической филологии, понимавшей ценность слова. Приведу слова Аверинцева: «Слово “филология” состоит из двух греческих корней. “Филейн” означает “любить”. “Логос” означает “слово”, но также и “смысл”: смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. Филология занимается “смыслом” — смыслом человеческого слова и человеческой мысли, смыслом культуры, — но не нагим смыслом, как это делает философия, а смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово. Филология есть искусство понимать сказанное и написанное» [815].
В этом контексте, думаю, стоит прочитать слова Замятина, воспевшего не «иго разума», но его величие и его трагедию. Вот его текст: «Единственное оружие, достойное человека — завтрашнего человека — это слово. Словом русская интеллигенция, русская литература — десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра. И теперь время вновь поднять это оружие. Умирает человек. Гордый homo erectus становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке — побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни, катится новая волна еврейских погромов. Нельзя больше молчать. <…> На защиту человека и человечности зовем мы русскую интеллигенцию. Наше обращение не к тем, кто не приемлет сегодня во имя возврата к вчерашнему; наше обращение не к тем, кто безнадежно оглушен сегодняшним днем; наше обращение к тем, кто видит далекое завтра — и во имя завтра, во имя человека — судит сегодня» [816].
В этом тексте «мы» — это вымирающие единицы. В романе «мы» — стройно и грозно марширующие колонны.
4. Почему вдруг «мы»?.
Обычно, говоря о замятинском романе, вспоминают бесконечное «мы» поэтов Пролеткульта. Однако тема «я» и «мы» была давней темой русской мысли. Не будем вспоминать споры славянофилов и западников. Но Чаадаева, мыслителя, от которого пошла русская философская мысль, который стал родоначальником самокритической направленности отечественного самосознания, миновать нельзя. Чаадаев, в своих «Философических письмах» говоря о России как некоей культурно — исторической общности, себя от России при этом не отделял. Постоянное его слово в рассказе о русских проблемах — «мы» («мы никогда не шли об руку с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода.» [817]). Такая позиция была расценена правительством и обществом как безумие. Вообще, как ни странно, в российских самокритических по отношению к культуре текстах часто используется это патриотическое местоимение, но с негативноаналитическим оттенком, вплоть до романа Замятина «Мы». Соответственно, возникала и ярость соплеменников, мол, мы не такие. Серебряный век (годы становления Замятина как писателя) обсуждал чаадаевские проблемы, тогда впервые был издан Гершензоном двухтомник Чаадаева, миновать его тексты Замятин не мог.
Стоит еще указать на эпоху становления народничества, из которого вырос большевизм. Как напомнил Н. Валентинов, еще в 70–х годах, характеризуя, деревенскую Русь, Глеб Успенский сравнил ее со скопищем плывущей по морю воблы, показав отсутствие в крестьянстве «я» [818]. Валентинов цитирует Успенского: «Однородное племя, живущее какой‑то сплошной жизнью, какой‑то коллективной мыслью и только в сплошном виде доступное пониманию. Отделить из этой миллионной массы единицу — дело невозможное» [819].
Но, продолжает Валентинов, будучи тогда марксистом, к 1908 г. (время действия его рассказа) он уже видел новые варианты отказа от «я» и замены его в человеческом сознании обобщением «мы». В политической жизни ХХ века уже он видел «радостно ощущаемый выход из своего узкого “я” в широкий мир коллективной души» [820]. Он очень тесно общался тогда с Андреем Белым, которому и рассказал свои соображения. Реакция Белого была резка и моментальна. Он ответил картинкой будущей жизни, в которой угадывается схема замятинского романа: «Вижу дортуары, тысячи, сотни тысяч, миллионы кроватей, ряд за рядом уходят куда‑то в бесконечность. На кроватях спят “мы”. У всех одного и того серого цвета одеяло. Одинакового цвета ночные туфли, одного и того же вида столик у кровати, у всех одинаковые сновидения. Чудовищная машина наделала миллионы одинаковых кукол и вложила в них подобие души. <…> Заявляю: среди “мы” я не буду. В дортуары на кровать, под соответствующим номером [821] мне отведенную, не пойду» [822].
Эта же тема звучит в знаменитом, событийном романе Белого «Петербург», где герой возмущается, что ему предлагают быть не «я», а «мы». Здесь мы можем найти любопытные сопряжения. Не раз справедливо говорилось, что «Петербург» с его темами и проблемами нужно рассматривать в контексте тем и образов Достоевского. Скажем, изображение Белым Невского проспекта весьма напоминает изображение Достоевским Кристального дворца, ужас перед толпой. К этому стоит добавить еще одно сближение, что Замятин считал себя в области формы учеником Андрея Белого, тексты которого, особенно «Петербург», где был изображен мир «нумерованной циркуляции», знал очень хорошо, как и положено талантливому ученику. В положительном — и угрожающем — контексте слово «мы» задолго до Пролеткульта прозвучало у Блока: «да, скифы — мы, да, азиаты — мы!» Тут, разумеется, номеров не было, была стихия. Но именно стихию «мы» и брали в Едином Государстве романа под контроль номерами. «Я» менее стихийно, чем «мы», ибо «мы» существует вне разума. В первобытном стаде — подчиняясь правилам стада, роевому принципу, а в развитом обществе существует как нечто идеологически заданное.
Поразительно, что самые первые строчки романа «Мы» как бы отрицают романность, художественность предлагаемого читателю текста: «Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете». Разумеется, это голос героя, а не автора. Герой выражает вроде бы новое мировоззрение, удивительно совпадающее с определенной жизнестроительной концепцией начала 20–х годов: «Я, Д-503, строитель Интеграла, — я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это “МЫ” будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю». Такова же была и позиция идеологов левого коммунизма, полагавших, что жизнь становится прекрасной, как поэма. Поэтому и нечего сочинять!
Стоит привести «Писательскую памятку» Н. Чужака, как бы квинтэссенцию футуристической и лефовской идеи «литературы факта», говорящего, заметим, от лица «мы»: «Новая литература — это и есть литература утверждения факта. <…> Литература есть такой же осколок жизни, как и всякий другой участок. Мы не мыслим себе отрыва писателя от того предмета, о котором он пишет. Нам смешно сейчас всякое воспевание со стороны, и нас не убеждает даже та сатира, объект которой не подвергался предварительно определенному воздействию со стороны сатирика. Мы требуем строительной увязки писателя с темой» [823] (выделено мной. — В. К.)