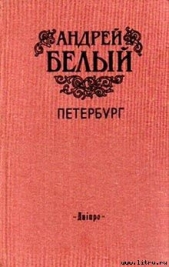Другой Петербург
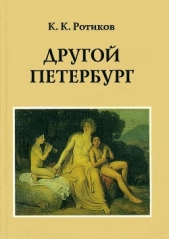
Другой Петербург читать книгу онлайн
Это необычное произведение — своего рода эстетическая и литературная игра, интригующая читателя неожиданными ассоциациями, сюжетными поворотами и открытиями. Книгу можно рассматривать и как оригинальный путеводитель, и как своеобразное дополнение к мифологии Петербурга. Перед читателем в неожиданном ракурсе предстают не только известные, но и незаслуженно забытые деятели отечественной истории и культуры.
В издании этой книги принял участие князь Эльбек Валентин Евгеньевич, за что издательство выражает ему глубокую благодарность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Георгий Иванов в своих квази-мемуарах «Петербургские зимы» дал забавную картинку салона Нагродской на Мойке, сочинив, будто к Кузмину, чтоб он не ленился писать, хозяйка приставила секретаря, по имени Агашка. «Был он, кажется, из семинаристов и говорил с „духовным“ акцентом. Лицо имел круглое и простодушное, как у чухонки. Но эстет был отчаянный и считал себя ужасно „порочным и тонким“, в доказательство чего носил лорнет, браслет и клетчатые штаны особого фасона… Часов с трех дня на Мойке начинался съезд. К пяти салон „гудел веселым ульем“. Хозяйка, превозмогая свою простодушную натуру, толкует о „красоте порока“. Другая, менее известная писательница К., в огромной шляпе, перебивая ее, лепечет о некромантии. Юркун, плодовитейший из беллетристов (только происками издателей можно было объяснить, что трудолюбие его еще не оценено) презрительно бросает кому-то, признавшемуся, что любит Леонардо да Винчи:
— Леонардо… Леонардо… Если б Аким Львович (Волынский) не написал о нем книги, никто бы и не помнил о вашем Леонардо…»
Вот, наконец, появляется Юрий Иванович Юркун. С ним Михаил Алексеевич нашел свое счастье. В сущности, идеал. Редкий, но не невозможный. Читатель, сколько-нибудь знакомый с предметом, и сам, наверняка, задумывался над некоторым несоответствием поэзии и реальности. Читаешь Платона, как будто перед собой видишь стройных мужественных юношей, под ветвями раскидистого платана внимающих наставнику, скромно и просто целующих педагога, укрывшись с ним одним плащом… И что же в жизни? курносые тапетки с ебливыми глазами… А с возрастом приходится, к тому же, осознать, что влечение к молодой плоти предполагает соответствующие расходы. В 1912 году некто Сережа Миллер с таким упорством тянул из Михаила Алексеевича, что ему пришлось буквально скрываться от него — в Царском Селе, кстати, у Гумилева с Ахматовой…
Кузмину был сорок один год, когда он познакомился с восемнадцатилетним Юркуном в Киеве. Это 1913 год. Какой-то опыт у Юрочки, разумеется, был, но сравнение с великим поэтом неуместно. Перед Кузминым открылась, действительно, tabula rasa — «чистая доска», на которой он мог писать, что хотел. Педагогическая утопия «Крыльев» получила, наконец, воплощение.
Юрий Иванович (собственно, он литовец, Осип Юркунас) родился 17 сентября 1895 года в деревне Селумцы Гелванской волости Волынской губернии. Кончил начальную школу. Остальное — жизненные «университеты».
Косая челка, «капризных бровей залом», губы вишенкой. Михаил Алексеевич в 1914 году пробил в печать первую юрочкину повесть «Шведские перчатки», сам и хвалил ее всюду. Сравнивал юного писателя с Диккенсом и Стерном — те, мол, тоже любили стариков и детей.
При любовном отношении к автору «Шведские перчатки» можно было бы уподобить и «Странствиям Вильгельма Мейстера» Гете. Отчего нет: бродячие актеры, роковые красавицы, соблазняющие юнца, скитания по провинциальным городкам, польскому захолустью. Философствующий дядюшка Бонифаций с другом, писателем Павлом Гекторовичем (обстоятельства и характер их знакомства неясны), опекающие мальчика… Наверное, все это реальные жизненные обстоятельства — о чем, как не о своей молодости, пишут начинающие писатели.
Первая повесть Юркуна обнаруживает нетвердое владение русским языком, да и в дальнейшем, кажется, он не обращал внимания на правильность речи, писал с польским акцентом (наверное, и говорил так же, что на слух воспринимается значительно приятнее, чем при чтении). Его произведения недавно переизданы, читатель может сам их оценить. Не исключено, что пожалеет о потраченном времени.
Были, правда, широкие замыслы. Какой-то роман «Туман за решеткой», напоминавший доброму Михаилу Алексеевичу прозу Фридриха Клингера (помните, «Буря и натиск»). Но все рукописи пропали, очевидно, навсегда. Сгинули при аресте. Юрий Иванович был арестован и расстрелян в 1938 году. Обвинение было стандартное: «участие в диверсионно-вредительской, антисоветской и террористической право-троцкистской организации». По этому же делу проходили, как поминалось, Бенедикт Лившиц, Адриан Пиотровский, Валентин Стенич (см. главу 14). Вот так: от мальчишки из литовской деревни до интеллектуальной супер-элиты Ленинграда… Кузмин воспитал.
Прожили они вместе двадцать три года. Это больше, чем вся жизнь, например, Веневитинова или только помянутого Вейнингера. Время досталось тяжелое. Вряд ли были еще какие причины не расставаться, как та, что не могли жить друг без друга.
Это сейчас нам кажется, поверхностным любителям «серебряного века»: «Вена», «Палкин», «Привал комедиантов». Сплошные файфоклоки с театрами и маскарадами. Однако же — сначала война (слава Богу, как-то избежали мобилизации), потом революции, а потом в Петрограде вообще жить казалось невыносимо…
Михаил Алексеевич был человек небогатый. Ни поместий, как у Философова, ни особняков, как у Сомова. В Париже не имел квартиры, как «Аргутон» (впрочем, не скажем точно, а кажется, даже и не бывал он в Париже). Работал, как вол, печатался всюду, не брезговал «Лукоморьем», ради хорошего гонорара. Переводы, пьески, статьи, рассказики, стишки на случай. Своим домом смог зажить только в 1915 году — на Спасской улице, д. 10, квартира 12. Юркун в первые годы, как приехал с матерью в Петроград, жил на Кирочной (у него даже был сборник рассказов, так называвшихся: «написанные на Кирочной в доме 48»), потом на Гродненском, д. 20 — все в этом же районе города.
Вместе поселились на Спасской в доме 17, но тут уже случилась революция, пошло коммунистическое «уплотнение», и оказались они с Юрочкой на двадцать лет в густонаселенной коммуналке. Да, треть жизни — из шестидесяти трех лет — на Спасской улице.
Круг жизни плавно замкнулся. Приехав в Петербург двенадцатилетним гимназистом, жил Миша, как мы помним, на Моховой — в двух шагах отсюда. Примерно посредине между первым и последним адресами — Спасо-Преображенский собор (1827–1829, арх. В. П. Стасов). С боем его колоколов начиналась петербургская жизнь Кузмина, с ним и кончилась бы, но запретили большевики звонить в колокола… Отпевать Михаила Алексеевича в 1936 году тоже не пришлось. Хоронили по-советски, с духовым оркестром, митингом на могиле и венком от «ленинградского союза писателей». Народу, кстати, было значительно больше, чем на похоронах Оскара Уайльда, за гробом которого шло семь человек…
Этот район (если называть по-советскому: улица Радищева, улица Короленко, улица Пестеля, улица Маяковского и т. п.) многое соединил. На углу Шестилавочной улицы и Графского переулка (по-нынешнему, Маяковского и Саперного) стоял в начале прошлого века деревянный дом, в котором на Пасху 1836 года скончалась Надежда Осиповна, мать Александра Сергеевича Пушкина. Дом на Саперном, 10 — адрес мережковского «Нового пути», а также философа Н. А. Бердяева и поэта-тираноубийцы Леонида Иоакимовича Канегиссера. Отсюда подворотнями легко выйти на Гродненский — к особняку (д. 6), принадлежавшему некогда князю В. П. Мещерскому, а с противоположной стороны с этим участком соседствует дом 27 по ул. Рылеева, подаренный князем своему другу Бурдукову (см. главу 16). На Спасской, д. 9 жил медик Лев Бернардович Бертенсон, дежуривший у одра Чайковского. В том же доме помещалось Общество защиты и сохранения памятников старины, основанное великим князем Николаем Михайловичем, а секретарем там был Н. Н. Врангель. В доме 33 жил преподаватель эстетики Гавриил Михайлович Князев, отец гусара Всеволода. Пересекается Спасская Надеждинской (бывшей Шестилавочной, а ныне Маяковского) — там на доме 52 доска в честь Владимира Владимировича (с Кузминым, надо отметить, довольно близкого годах в 1916–1917), но на самом деле запутанная жизнь Маяковского с Бриками проходила на их квартире (ул. Жуковского, д. 7).