Писатели и советские вожди
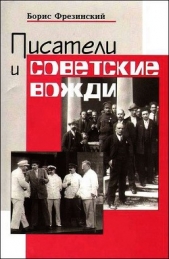
Писатели и советские вожди читать книгу онлайн
Историк литературы и публицист Борис Фрезинский — автор книг «Судьбы Серапионов», «Все это было в XX веке (заметки на полях истории)», «Илья Эренбург с фотоаппаратом»; биограф Ильи Эренбурга, публикатор и комментатор его сочинений, а также работ Н. И. Бухарина и других авторов; его перу принадлежат более 250 статей и публикаций по истории литературы и политической истории русского XX века. Новая документальная книга Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» основана на многолетних архивных изысканиях автора.
Книга историка литературы Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» насыщена неизвестными и малоизвестными историческими документами. Она позволяет читателю на конкретных примерах, избегая упрощенных схем и скороспелых выводов, увидеть, как в различные десятилетия советской истории по-разному складывались в стране, оставаясь неизменно сложными, неоднозначными и трагическими, индивидуальные судьбы писателей. А попутно — и как созданная в результате Октябрьской революции система привела к жесточайшей диктатуре Сталина, уничтожившей вождей революции — Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Радека…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поэтесса Елизавета Полонская вспоминала, как в Москве того времени она услышала эпиграмму:
Приведя в воспоминаниях ее текст, Полонская лукаво заметила: «Не знаю, кто был тот вождь, который „промахнулся“ и был ли он вождем, но эпиграмма била в цель без промаха!» [992] (Назвать Троцкого в 1960-х вождем и надеяться на издание своей книги — было нелепо, а процитировать эпиграмму очень хотелось…)
Конечно, посредственное качество стихов Безыменского объяснялось не только размером таланта и избытком темперамента, но отчасти, может быть, и тем еще, что после «низложения» Троцкого в 1925-м, когда Безыменский присягнул другому вождю, ему пришлось до конца дней неустанно «отмываться» от высокой оценки своих первых стихов «злейшим врагом советской власти». Конечно, в декабре 1935 г. страна еще не ведала, что бывший организатор Октябрьской революции и создатель Красной Армии — шпион, давно работающий на гестапо, но что он контрреволюционер и злейший враг СССР — знали уже даже дети; клеймо «троцкист» стало несмываемым и смертельным. Каждый мог напомнить Безыменскому о том, кто именно поощрял его в начале литературного пути, и он добивался того, чтобы каждому имел право ответить: мало кто сравнится с ним в части преданности режиму. Начальство чувствовало: Безыменский так старается, что, пожалуй, ему можно давать ответственные поручения — он непременно расстарается… Так Безыменский стал руководителем группы. Конечно, «темное», в смысле сочувственного отношения Троцкого, прошлое имел не только Безыменский. Сельвинский тоже был отмечен симпатиями бывшего вождя, и товарищ Сталин, увидев Сельвинского, однажды опасно пошутил (а может, и не пошутил, но все равно опасно), что к нему надо относиться особенно заботливо, ведь его любил Троцкий. Звания «Октябревич», однако, Сельвинский удостоен не был…
Вернемся теперь в 1935 г., когда группа четырех советских поэтов оказалась в Варшаве.
Свои письменные отчеты о поездке в Европу Безыменский направлял в Москву, адресуя их сразу трем лицам: партийному функционеру А. С. Щербакову, поставленному руководить Союзом писателей и вскоре ставшему секретарем ЦК, А. И. Ангарову, ведавшему литературой в Агитпропе ЦК и впоследствии расстрелянному, и А. А. Суркову, комсомольскому поэту, не отмеченному вниманием Троцкого и занимавшему сильные позиции в аппарате Союза советских писателей, впоследствии его возглавившему.
Спутники Безыменского, видимо, догадывались, что с ним надо держать ухо востро, но были они еще молоды и, пожалуй, недостаточно запуганы, так что Безыменскому было что писать…
Первое донесение Безыменский отправил с оказией (его повез, возвращаясь в Москву, глава советских профсоюзов Н. М. Шверник).
(1 декабря 1935 г.)Если вы справедливо считаете нашу поездку соединением учебы с удовольствием, то для меня лично и то и другое переплетается с утомительным и трудным делом психологического руководства тройки весьма трудных человеческих экземпляров. Поэтому довольно часто удовольствие от поездки затемняется разными крупными и мелкими неприятностями. Правда, они на 99 % исходят от одного лишь из поэтов, но они существуют и об этом надо вам знать.
Я считаю в целом, что дела идут очень успешно и пользу мы принесли немалую. Вопрос в выводах и закреплении сделанного.
В Варшаве, как и следовало ожидать, открытый вечер не мог состояться. Дафтян [993]
(так! — Б.Ф.) Мы встретились с Тувимом и Броневским, затем с Ваттом [995] в нашем номере. Я не думаю, что трудно было Тувиму сообщить о нашем приезде еще нескольким поэтам и позвать их. Очевидно, сей муж (служащий Министерства пропаганды) сумел никого не найти, хотя изливался в комплиментах нам. Мы читали стихи. Тувим читал переводы Пушкина (кстати, великолепные), читал Броневский. Тувим называл нас «богатырями», говорил, что только громадная сила страны может рождать такую силу стиха, такую манеру чтения, рассчитанного на большие аудитории, и т. п. Мы много говорили о нашей поэзии и слушали потоки жалоб на судьбы польской поэзии. Максимальный тираж книг — 1000 экземпляров, никто не может жить стихами, Тувим пишет для кабаре и мюзик-холла, никогда поэты не выступают, разве что раз в году в кафе для привлечения публики: платит хозяин кафе. Публика стихов не читает, не любит их, слушать не хочет. Академию литературы они презирают.
Тувим хочет приехать к нам в Союз, в частности на Пушкинские торжества, или даже к 1 мая 1936 г. Я думаю, что пустить его надо. Я взял книги польских поэтов (я пошлю их вам еще до нашего возвращения), мы дали им книги, они обещали переводить.
Ну, когда мы переехали чешскую границу, сразу почувствовали все четверо всеобщее внимание, начиная с первых людей, встреченных в поезде. Александровский [996] встретил нас необычайно, жили мы прекрасно, забота о нас была исключительной. Первый день — осмотр города. Второй день — прием в посольстве. Мы читали, и, надо сказать, впечатление было громадным. Отсюда пошли вести по всему городу и вести сенсационные. Нужно прибавить, что Александровский посоветовал нам на приеме спеть несколько песен — и эта простая вещь стократ увеличила интерес к нам: не только, мол, сильные поэты, но и веселые, жизнерадостные и т. д. Все без исключения газеты дали статьи, заметки, наши интервью. Третий день — поездки в Братиславу, встреча со словацкими поэтами, опера Шостаковича [997], прием в обществе друзей СССР. Сильва <Сельвинский> и Луговской отправились в Моравскую Остраву, а я в Прагу готовиться к докладу. Еще в Москве Чемоданов [998] просил приложить все силы чтобы выступить на собрании молодежи для помощи единому фронту. Подвернулся исключительной удачи случай: «вечер молодых» в зале Люцерна. Я не знаю, поместили ли наши газеты отчет о нем (телеграмму ТАСС). Скажу кратко: была молодежь с-д, комсомольская, бенешевская [999], католическая, беспартийная. Каждое произнесение имени Сталина сопровождалось овацией. Была двухминутная овация в честь Красной армии, когда я сказал, что советские поэты «воспевают мощь Красной армии, защитницы нашего и вашего спокойствия». Было исключительно сильное «движение в зале», когда я говорил об уверенности в завтрашнем дне, отличающей нашего человека: — «у нас нет инженеров, работающих дворниками, и профессоров, работающих продавцами; если кто кончает институт, место ему обеспечено; мы знаем, наоборот, продавцов, учащихся в вечернем университете, и парикмахеров, учащихся в консерватории». Я построил доклад таким образом, что, говоря о тематике советских поэтов, рассказывал о стране. Ну, конечно, в конце говорил о дружбе и борьбе за мир. В перерыве сотня людей пришла за кулисы просить автографы (здесь это принято). Дело, понятно, не в моей персоне. В докладе я привел цитату Массарика [1000] о том, что оборона не есть насилие, а применения оружие против насилия: принято это было соответственно. Пару фраз произнес я на чешском языке.
На следующий вечер мы выступали с речами и чтением стихов в другом зале. (В Люцерне выступал я один по прямому предложению Александровского, боявшегося повторения проявленных художеств одного из поэтов — Кирсанова, — о котором речь ниже). Успех был оглушительным, прямо говорю. Можете судить по прессе. Даже самые правые газеты хвалили и признавали. Правда, Кирсанов вообразил себя в Политехническом музее [1001] и, обманув нас, прочел никем не предусмотренную «Мэри — Наездницу» [1002], хотя я и шепнул ему, чтобы он отказался от этого намерения [1003]. Но это был единственный прорыв. Вечер был прекрасным.
Мы дальше встречались с поэтами, о чем отдельный разговор, были в театре Буриана, были в клубе политических деятелей.
Итог, несомненно, положительный.
Теперь о чешских поэтах. Их много, они пишут, имеют книги. Общее положение вам верно известно от Третьякова [1004]. Что сделали мы? К сожалению, во время нашей поездки в Братиславу оставшийся в Праге Кирсанов встретился с сюрреалистами первый. Встреча с ними и с другими поэтами произошла на квартире Гофмейстера без присутствия Луговского и Сельвинского, ибо Сема, забежав вперед, условился о встрече один — а народ заграницей точный. Были я и Кирсанов, был Гофмейстер, Незвал, Гора, Галас, и еще трое (фамилии я записал, но сейчас трудно бежать за книжкой: потом сообщу). Читали стихи, говорили. Первый вывод: Пастернака Незвал и некоторые другие противопоставляют всей советской поэзии и ссылаются при этом на Бухарина [1005]. Второе: от социальной тематики большинство уклоняется, хотя и чувствует приближение новой волны ее. Третий — теория сюрреализма, никем у нас не раскритикованная, чудовищная сама по себе, держит в плену талант близкий нам. — «Нужно освободить поэта в человеке, человек бывает поэтом только во время сна, ибо тогда нет зловредной цензуры разума». Психологический автоматизм, спонтанная реакция — чего-чего только Незвал не наговорил. А стихи его — «галантная игра со словом», как определил Матезиус, «выявление подсознательного», фрейдистский туман — и (раз в полгода) — ррреволюционный марш. Его пьеса, увиденная нами — это заверченная любовная история; люди уходят друг от друга, сходятся, декламируют нечто, мучаются и танцуют — но так как надо искать путь, неожиданно решают ехать в Советский Союз (не борясь, а убегая) и поют «Интернационал».
Мы начали спор, не могущий, конечно, завершиться в столь малый срок, причем Незвал насчет классовой борьбы вспомнил только после моих слов. Вспомнил, чтобы в своих доказательствах ни разу о ней не упомянуть. Судя по тому, как яро бегал он к телефону, чтобы говорить с Тайге
(так! — Б.Ф.)Необходимо дать бой сюрреализму не в тоне отвратительной полемики Эренбурга [1008] («разные сюрреалисты, педерасты, сволочи»), дать бой статьями, исходящими от марксистов; не столь в «Литгазете» (что тоже нужно), сколь в заграничной прессе и в Чехии особенно. В речи на вечере я сказал, что некоторые таланты Чехии, к сожалению, идут за некоторыми плохими францусскими
(так! — Б.Ф.) С чешскими поэтами мы поговорили прекрасно, однако нужна работа и немалая.
Должен сказать, что больше всего агитировало и разъясняло наше чтение, живое художественное слово. Надо поездки поэтов повторять, и это не исходит из желания моего помочь товарищам поэтам ездить за границу, а из прямой политической целесообразности. Ряд чешских поэтов надо позвать и к нам.
Поэты, близкие к нам и считающие себя коммунистами, на рабочий класс не ориентируются, думают о формальных кунсштюках, лишь изредка создавая что-либо маршеобразное. Рабочих поэтов я видеть не мог, но они есть. Я говорил в «Руде право» [1009] и с газетой комсомола. Мы наметили план организации кружка рабочих поэтов и работы с другими поэтами.
Прошу вас не пожалеть денег и сделать дословный перевод стих<ов>, которые я вам пришлю. Надо знать прежде всего, ЧТО там написано, иначе будем бродить вслепую. А мы очень уж недооценивали нашу работу с поэтами Запада, критику их и помощь им. Чтобы мне сделать вразумительный доклад о поэзии нами посещенных стран, надо сделать переводы. Вообще надо. Хоть дословный.
Итак: выступления, доклад, встречи, пресса. Это немало, тем более, что состояние поэзии Запада внушило трем моим спутникам подлинную гордость тем, что сделано поэзией Советской страны, несмотря на все наши недочеты.
Луговской и Сельвинский ведут себя прекрасно. Кроме того, что они только и говорят о советской стране, ее победах и переворотах, сравнивают людей Республики с теми ущербными и страдающими людьми, которых они встречают на каждом шагу, — эти поэты в условиях Запада необычайно искренне, от всего сердца чувствуют себя ЧАСТЬЮ поэтического отряда бойцов СССР. Проявлений того эгоцентризма, который столь резво проявлялся у Сельвинского, не видать. По всем вопросам «социального порядка», большим и мелким, они трогательно советуются со мной, с Александровским. Они читают то, что показывает их, как СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ, отказываясь от минутного успеха экспериментально-формалистических стихов, вроде «Цыганского вальса на гитаре» и «Цыганской рапсодии» [1010]. Когда их интервьюировали, они прежде всего говорили о ВСЕЙ советской поэзии, а потом уже о своем месте в ней. Они говорили о их работе с достоинством, но не забывали сказать о роли партии в их развитии.
Теперь о Кирсанове. Я усиленно сдерживаюсь, чтобы не выматериться, но это мое частное дело. В отношениях к нему я спокоен, хотя пришлось на «собраниях четырех» делать прямые честные внушения, с ним я говорю мирно, но Аллах знает, что это мне стоит. Однако в вопросах принципиальных не уступаю ни пяди, как и полагается.
Этот человек всюду суетится. Это его основное качество. Он всюду лезет вперед, подчас не дает никому говорить, желая показать именно себя «вождем» литературы и группы путешествующих. Это он хочет разъяснить спорные пункты, это он хочет определить политику. Но важнее всего СУТЬ его высказываний.
Прежде всего он заявил, что никогда не отказывался от теорий Лефа. Затем он объявляет экспериментаторов и формалистов единственно подлинными поэтами. Я уже не говорю, что дружбу с Маяковским хочет сделать основой своего «успеха», забывая о том, ОТ КОГО ушел Маяковский [1011].
И, как всегда бывает, этот ррреволюционный поэт помогает именно ПРАВЫМ тенденциям литературы. Тувиму он заявляет, что будет «напастерначивать», в то время как Безыменский, мол, будет против Пастернака. В паре случаев Кирсанов становится на сторону противупоставивших Пастернака поэтам-коммунистам. Кирсанов всюду (и на вечере публичном тоже!) требует, чтобы Сельвинский читал «Цыганскую рапсодию» и «Цыганский вальс». Подхалимничает он пред Сельвинским дико, толкая его на читку того, что в данных условиях ВРЕДНО НАМ. САМ Сельвинский сделал ему внушение в этом смысле, что весьма показательно.
Хуже другое. Стремясь выставить себя другом чешских поэтов и «самым большим заботником о них», Кирсанов хвалил их стихи, и особенно сюрреалистов, НЕ ПОНИМАЯ СМЫСЛА СТИХОВ. Он сообщил, что у него «интуиция на хорошие стихи». Все, что читал Незвал, сопровождалось восклицаниями «изумительно!», «необыкновенно!» и т. п. Пьесу его Кирсанов расхвалил. Что же будет, когда мы в соответствующей форме скажем правду Незвалу? Кирсанов будет единственным хорошим и понимающим, а остальные… сами понимаете. Политика сплошных комплиментов в целях продвижения своей «теории» и воображаемой группы — вот политика Кирсанова.
На встрече с чешскими поэтами было двое ренегатов коммунизма. Сема, как ребенок, увлекаясь своими игрушками, говорил такие вещи, которые можно говорить только подлинным друзьям. Мало того. После моего доклада в Люцерне, в комнате за сценой, в присутствии пяти человек, в том числе переводчика Кенига, бенешевца и представителя буржуазной газеты, стал говорить, что хлопали Безыменскому не так уж много и особенного успеха не было. Не буду объяснять, какие чувства руководили им. А когда я после сказал ему, что, если даже была бы правда в его словах, надо не забывать, где и с кем ты говоришь, Сема, перепугавшись до черта, стал уверять меня, что Кениг служит в советском посольстве!
Оказалось, что он не поехал в Братиславу, чтобы устроить свои «дела». Мы только позавчера с удивлением узнали, что Кирсанов, никому ничего не говоря, заключил договор на антологию советских поэтов с «Малик ферлаг» [1012] и вел с немецкими эмигрантами какие-то разговоры, о которых мы ничего не знаем, кроме резких выпадов Лингарта против «системы» разговора Кирсанова.
Я бы хотел, чтоб вы послушали разговор Сельвинского с Кирсановым, его резкий тон, разбор сюрреализма, характеристику беспринципности Кирсанова. Честное слово, вы бы порадовались за Сельвинского. Сельвинский говорил и с Незваном, дружески, но резко спорил с ним, критиковал его теории, критиковал и конструктивизм и Леф; критиковал правильно.
Сельвинский заявил Кирсанову, что он хотел бы путешествовать отдельно от него, если повторится история с «Мэри-наездницей». Семе почти безразлично стало после первого стихотворения ЗА ЧТО ему будут хлопать, лишь бы хлопали — и вот «Мэри». Он перепугался нашего противодействия, но кто знает, что выкинет он завтра.
Мне и (с радостью скажу) Сильве и Володе удалось исправить вред, причиненный Семой. Семочка после наших поправок брал в разговорах слова обратно, вспомнил и о классовой борьбе, упоминал о других поэтах. Однако тенденции сего поэта вам видны. Иногда Сильва прямо говорит: — Сема, помолчите хоть минутку — и хорошо, что именно он это говорит. На собрании четырех был хороший разговор, прямой и принципиальный, Сема притих, но, — повторяю, — кто знает, что он выкинет завтра.
Если что имеете посоветовать — пишите.
Когда в целом берешь сделанное нами — я оцениваю это очень [1013] положительно. Видели мы много, писали немало, выступали хорошо. Надо зацеплять. Переводите стихи, собирайте материалы.
Внутренние дела наши доставляют мне много трудностей с Семой, но преодолеем и это. Надо уметь владеть Володей и Ильей тоже, но это несравненно легче.
Спешу закончить, чтобы передать письмо с Шверником. Что не дописал, напишу в следующий раз. Пишите, что с пленумом [1014] и подготовкой к нему. Это очень нам нужно.
Нам подослали сюда вырезки чешской печати.
Рад видеть успех наших выступлений и «обчественный шум» вокруг нас. Постараюсь дальше. Повторяю, если есть советы — пишите.
Привет вам, дорогие. Привет родине. Привет поэтам. Асеев прислал нам замечательное письмо, о котором сообщу потом. Жму руки
























