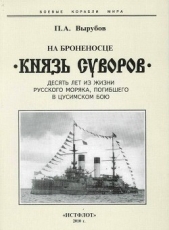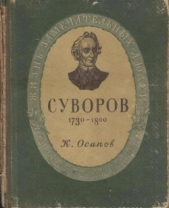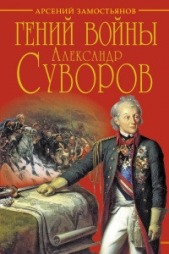Генералиссимус князь Суворов

Генералиссимус князь Суворов читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не один Хвостов пристраивался к Суворову и ожидал от него всяких благ: искали протекции и другие родственники, и посторонние. Положение и репутация Суворова давали ему порядочный вес, и он не прочь был помогать чем мог, как собственной своей властъю, так и предстательством у других. В числе просителей встречается и Марья Савишна Перекусихина, любимая камер-юнгфера Государыни, которая пристраивала в то время своего родственника. Но ходатайства иногда бывали так неумеренны и несвоевременны, что выводили Суворова из терпения. Хвостов, подбиваемый женою, изъявляет неудовольствие, что отстает по службе от других; Суворов ему отвечает: «стерегитесь от беса полуденного (жены), ждите удобнейшего времени, я сам на черте пучины». Зять, князь Горчаков, просит за своего сына Алексея, о котором Суворов писал уже графу Н. Салтыкову, но не получил ответа. Суворов сердится; отказывается просить вторично (с Н. Салтыковым он был не в ладу), издевается над «сложно-перебойным» языком письма, противупоставляет ему свой «адамовский» и заодно зацепляет князя Алексея; «как в превратном свете внучка розгою заставляет бабушку прясть, так в письме его отца, в полном блистании Алексей-князь». Граф Безбородко изъявляет неудовольствие, что Суворов недостаточно внимателен к некоторым его родственникам; Суворов опять сердится и пишет Хвостову: «мне всех быков, козлов и лисок не употчевать». Приближенные к нему лица также жаждут разных наград и благостынь, не скупясь конечно в оценке собственных заслуг, и в сентябре 1792 года один из них пишет: «конец пограничным постройкам; все проиграли, только Прохор (камердинер Суворова), или и того лучше, супруга его в выигрыше» 5.
К числу причин, раздражавших Суворова и поддерживавших в нем ненормальное внутреннее состояние, следует отнести также один случай, много испортивший ему крови. В переписке с Хвостовым, он был очень не сдержан в своих отзывах и суждениях о людях, почему и просил Хвостова все такие письма жечь. Но Хвостов этого не исполнил, по крайней мере относительно большой части получаемых посланий, которые и дошли до нашего времени. Хвостов считал себя поэтом, т.е. страдал болезненным позывом к кропанию виршей; эта страсть развивалась в нем прогрессивно; ни равнодушие, ни насмешки читателей и критиков не производили на него отрезвляющего впечатления. В позднейшее время он сделался посмешищем, почти нарицательным именем бесталанного стихоплета, и так как его сочинения лежали в книжных лавках без сбыта, то он сам покупал их, где его лично не знали, или поручал делать это близким людям. только бы показать, что книги его в спросе. Эта неудержимая страсть заставила его в описываемое время сделать неосторожный поступок. Суворов написал ему письмо, с едкими выходками в прозе и стихах против своих недоброжелателей и завистников, действительным и мнимых, и приложил листы с подобным же писанием. Хвостов, накропавший в то время также стихи, относившиеся к Суворову и начинавшиеся словами: «почто почил наш Геркулес», не утерпел, показал и свои стихи, и Суворовские подполковнику Корицкому, человеку близкому. Корицкий в свою очередь стал показывать под секретом другим, и злые сарказмы Суворова облетели большой круг людей, побывали у Державина, у Турчанинова и иных, и попали даже в руки Платона Зубова. Суворов узнал про это случайно, от одного из своих подчиненных, приехавшего из Петербурга, и сильнейшим образом рассердился. Досталось тут всем: Корицкому за его «леноумие»; Турчанинову за то, что он поступил «не как сын, а недружный пасынок»; но пуще всех Хвостову, как главному виновнику. Не пощадил Суворов своего преданного и усердного племянника, имевшего на своем попечении его дочь; слова: «мошенник, предатель, глупая нянька» показывают степень его гнева. Хвостов был оскорблен, чуть не уничтожен непомерною горячностью дяди, и первое время совсем потерялся, но придя в себя, прибегнул к наилучшему средству для своего оправдания, а именно к откровенному изложению всего дела. Суворов, обезоруженный чистосердечием Хвостова, его непритворною печалью, кротостью и непоколебимою преданностью, пришел в себя и стих; между ним и добряком племянником установились прежние отношения, переписка поэтому делу однако продолжалась. Суворов требовал, чтобы Хвостов открыл «побочную интригу» лиц, которые распространили и довели так далеко письмо с его, Суворова, «солдатским лаем»; чтобы были «обращены в метеор глупозлобные клевреты»; чтобы Хвостов «оглупотворил их». Он говорил, что не успокоится до тех пор, пока не будут добыты эти злосчастные бумаги и сожжены вместе с другими, однородными письмами. Хвостов постарался исполнить справедливое требование дяди, уверил его, что письмо добыто, что листов, к письму приложенных, посторонние лица не видали, что все из переписки Суворова, могущее его компрометировать, истреблено. На том дело и покончилось 21.
В заключение, для полноты представления о Суворове за время его пребывания в Финляндии, остается сказать несколько слов о его частной, неслужебной жизни и занятиях. Он проживал в разных местах своего района, смотря но надобности: в Выборге, Кюменегарде, Роченсальме. В Кюменегарде он оставил по себе память, между прочим заботами о православной церкви, выписывал из Петербурга регента обучать тамошний хор, накупил разных церковных вещей на несколько сот рублей. Тут у него образовался кружок знакомых; свободное от службы время проводилось весело; Суворов часто танцевал, и в письме к Хвостову хвастал, что однажды «сряду 3 часа контртанц прыгал». Проживая в Фридрихсгаме, он занимал верхний этаж лучшего в городе дома, г-жи Грин, вдовы врача. Она была женщина умная, ловкая, пользовалась общим уважением, хорошо говорила по-русски и умела вполне угодить своему причудливому постояльцу, который в свою очередь оказывал ей внимание, заговаривал с нею по-фински, называл ее маменькой и приходил беседовать за чашкой чая, просватав свою дочь и племянницу, г-жа Грин просила Суворова быть, по русскому обычаю, посаженным отцом у дочери; он не только согласился, но вызвался быть тем же у племянницы, перебрался в одну небольшую комнату, а остальное помещение уступил хозяйке для свадебного праздника. Сначала все шло благополучно, но потом Суворов не удержался от разных выходок. Ему не понравился жених племянницы, большой руки франт, одетый изысканно, раздушенный, с огромной модной прической. Во время венчания Суворов часто посматривал на него, хмурился, морщился, прищуривался, вытягивал вперед голову, усиленно нюхал и поплевывал в сторону. Затем он стал вполголоса сравнивать голову жениха с походным котлом, называл его «щеголем, прыгунчиком, пахучкой», наконец вытащил носовой платок и зажал себе нос. Это произвело некоторый скандал, но почетный гость и посаженный отец, к потехе одних и к замешательству других, продолжал преследовать несчастного молодого во время свадебного бала, и громко называл его голову круглой щеткой для обметания потолков, а на другой день послал свадебный подарок одной хозяйской дочери 26. Как ни скромна была настоящая доля Суворова, но громкие победы недавних лет не оставляли его в тени и вдохновляли русских поэтов. Один из них, Костров, переводчик Гомера, написавший в честь Суворова оду и на взятие Измаила эпистолу, перевел затем поэтическую подделку Макферсона: «Песни Оссиана, сына Фингалова». Полный восторженного удивления к измаильскому герою, Костров посвятил ему свой последний труд и прислал экземпляр книги при соответствующем случаю письме. Как ни слаб и бледен был этот снимок, притом не с подлинника, а с французского перевода, но он произвел довольно сильное впечатление на Суворова. Костров и Суворов обменялись при этом стихами; причем первый уподоблял Суворова Фингалу; кроме того Суворов, вдохновленный чтением Оссиана, пустился в подражание и написал целую страницу прозой, подходящей к переводу Кострова. Приводим начало и конец: «Странствую в сих каменомшистых местах, пою из Оссиана. О, в каком я мраке! Пронзающий темноту луч денного светила дарит меня…… О барды, воспойте тамошнюю (идет речь о юге) радость, поелику о ней от кулдеев (?) слыхали. Скоро ли меня перенесут орлы в те медомлечные страны, где я толико упражнялся с браненосцами, и где бы я тонкий воздух, наполненный зефирами, приятно разделил хоть на роге мира» 7.