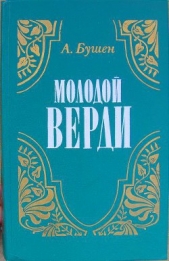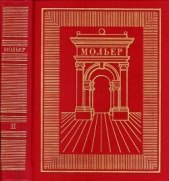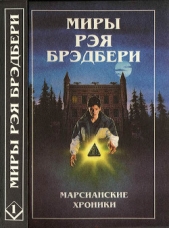Брамс. Вагнер. Верди
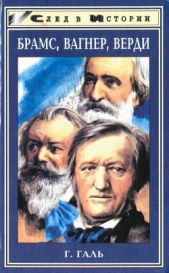
Брамс. Вагнер. Верди читать книгу онлайн
Автор книги — старейший австрийский музыковед и композитор, известный главным образом своими исследованиями творчества венских классиков.
Рассказывая о жизненном пути каждого из своих героев, Г. Галь подробно останавливается на перипетиях его личной жизни, сопровождая повествование историческим экскурсом в ту эпоху, когда творил композитор. Автор широко привлекает эпистолярное наследие музыкантов, их автобиографические заметки.
Вторая часть каждого очерка содержит музыковедческий анализ основных произведений композитора. Г. Галь излагает свою оценку музыкального стиля, манеры художника в весьма доходчивой форме живым, образным языком.
Книгу открывает вступительная статья одного из крупнейших советских музыковедов И. Ф. Бэлзы.
Рекомендуется специалистам-музыковедам и широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наряду с главными героями необычайно четко охарактеризованы и второстепенные. Достаточно сравнить Погнера, доброго, благожелательного отца, с Даландом, его предшественником из «Летучего голландца», традиционно условным представителем того же амплуа, чтобы понять, как далеко вперед продвинулся Вагнер в своем искусстве. И вторая любовная пара «Мейстерзингеров» удостоилась самой живой, индивидуальной характеристики — Давид и Магдалена. А если характерные типы «Мейстерзингеров» сравнить с персонажами «Кольца нибелунга», всякому станет ясно, сколь огромен контраст между ними. Мы уже указывали на то, что в «Кольце» злодеи, интриганы обделены музыкой — как и в «Лоэнгрине», «Тристане», «Парсифале» — и что это связано с самой «конституцией» этих произведений. В «Мейстерзингерах» любая фигура полнокровна, пропитана музыкой, и даже на Котнера, суховатого старшину гильдии, проливается яркий свет музыки, когда он зачитывает табулатуру — правила цеха мейстерзингеров. И Бекмессер, писарь, воплощенный враг искусства, любого чувства, — живая, оригинальная личность. Пародировать легче всего, и Бекмессер мог бы стать простой пародией. Но композитор ограничивает пародийность этого образа весьма сдержанными намеками. Поэтому серенада, которую исполняет Бекмессер, — это непревзойденный шедевр; несмотря на все пародийные частности, это великолепная мелодическая находка, благословенный ритм, из всего этого и вырастает чудесно задуманный финал второго действия. Раздраженный прямолинейной критикой Ганса Сакса, который, отмечая ошибки, знай себе бьет молотком по подошве башмака, Бекмессер вне себя от возмущения с трудом «продирается» сквозь последнюю строфу своей песни, и тут на него набрасывается с кулаками Давид, который, увидев своими зоркими глазами сидящую в окне переодетую Магдалену, решил, что ей-то и предназначалась серенада незадачливого писаря. Так и начинается славное побоище, где никому не ведомо, кто кого бьет и за что… А из «Мотива драки» вырастает фуга с мелодией серенады Бекмессера в качестве второй темы! Эта тема поднимается по терциям вверх, чтобы — ради этого и все нарастание! — приземлиться на фа-диез, единственной ноте, какую издает рожок ночного сторожа, который уже довелось услышать в предыдущей сцене. Этот фа-диез — сигнал ужаса: все немедленно разбегаются… А вместе с тем с него начинается поразительно прекрасная мелодия: прежде она звучала, когда Вальтер и Ева сидели в уединении под липой, и, кажется, все волшебство теплой летней ночи перешло в эту мелодию. Когда же ночной сторож выходит на сцену и, зевая, напевает свою песню, думая, должно быть, что услышанный им издалека шум просто-напросто пригрезился ему, а затем мелодия летней ночи, нарушаемая тихим отголоском отшумевшей драки, перебивается клочками бекмессеровской серенады, на звуках которых и опускается занавес, — это самый чудесный финал оперного акта, который когда-либо был написан.

Брамс, всегда настороженный, сдержанный критик своего знаменитого современника, нечаянно процитировал это завершение в одной из поздних фортепьянных пьес (Op. 119, № 2) — вот изящный, непроизвольный знак признания! На полях заметим для себя, что тождественность тональности, как всегда, ясно указывает на подсознательно закрепившийся в памяти образ:

И еще одно замечание на полях: радость, которую доставляет этот финал, портит одно-единственное обстоятельство — вокальный характер сцены драки невыносим. Кто с некоторым знанием дела заглянет в клавир, поймет почему:


Артикуляция и фразировка в вокальных партиях такова, как если бы это были инструменты, не голоса. Вагнеровский слух, безошибочный во всем, что касается оркестра, странным образом подводит его, когда речь заходит о человеческих голосах: тонкое чувство выразительной декламации сольного пения изменяет ему в ансамблях, где Вагнер поддается искушению требовать от голосов вещи, которые им противопоказаны. Встречаются хормейстеры оперы, которые хвастаются тем, что их хор может исполнять сцену драки без сопровождения! В репетиционном зале — да! Но не на сцене, где все обращается в беспорядочный крик. Хорошо еще, когда кричат в такт, хотя все равно некрасиво. Можно возразить: откуда быть красоте в сцене драки? Но остается вопрос: заслуживает ли этот шум и гам бесконечного труда, какой приходится на него положить?
К счастью, Вагнер умел писать иначе и не раз доказал это в тех же «Мейстерзингерах». Самое поразительное из всех его теоретических заблуждений — это отказ от ансамблей, прекраснейшей возможности оперного стиля. В «Кольце нибелунга», в «Тристане» Вагнер, за малым исключением, придерживался того принципа, который был метко определен Гансликом — «петь гуськом». В «Мейстерзингерах» Вагнер позабыл о нем. Конечно, он не пошел так далеко, чтобы сцена Евы и Вальтера или Сакса и Евы превратилась в простой оперный дуэт. Но когда теплота чувства побеждает — сцена крещения новорожденной песни Вальтера, — Вагнер способен составить квинтет из пяти участников — вот эмоциональная кульминация всего произведения, соответствующая внешней кульминации на праздничном лугу она словно ореол окружает всю оперу. Иной раз, слушая Вагнера, теряешь терпение: когда он слишком уж многословен. Зато в преддверии волнующих событий чувство выражается сосредоточенно, музыка кристаллизуется и дает неповторимый, несравненный склад. И коль скоро автор «Мейстерзингеров» делает типично оперные выводы из типично оперной ситуации, с ним даже случается вот что — он прибегает к такой форме, которая со времен Россини встречалась в любой итальянской опере, к такой, в которую легче всего отливается оперный ансамбль. Такая форма на деле создана Россини, она органически вытекает из его стиля, где мелодия — единственное, о чем вообще идет речь. Ансамбль начинается так, как будто это ария: сольный голос исполняет широкую певучую мелодию; в среднем разделе к нему один за другим присоединяются, чуть контрастируя с ним, остальные голоса, внутреннее волнение нарастает и подводит к первоначальной мелодии, которая выразительно поддерживается всем ансамблем и достигает теперь кульминации. Нет менее замысловатой идеи формы, но если мелодия и голоса красивы, она завораживает — вот квинтэссенция того, что может предложить итальянская опера. Вагнер без смущения пользуется такой формой здесь, и это свидетельствует о его непредвзятости — когда нужно! А что касается мелодического дара, Вагнер, когда душа его захвачена, обойдет любого…
Между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами, в период создания «Мейстерзингеров», Вагнер, как почувствовал он сам, достиг вершины творчества. В шестьдесят лет он завершил «Кольцо», «колоссальное творение», как назвал он его сам. В то же время он сознавал, что его силы неисчерпаемы; он чувствовал себя избранником. Тогда он писал Пузинелли: «Что касается моего здоровья, я — особенно знатокам дела — представляюсь экземпляром особой человеческой породы, какому предстоит долгая творческая жизнь… Мне требуется много времени — ведь все, что я ни пишу, является в превосходной степени». А издателю Шотту Вагнер пишет: «Судьба — об этом можно говорить с уверенностью — уготовала мне крепкое здоровье и преклонный возраст, с тем чтобы один человек смог добиться того, на что в Германии потребны две человеческие жизни». Вагнер наверняка оправдал бы приговор судьбы, если бы не его последняя фантастическая авантюра — Байрейт, стоивший ему здоровья. Партитура «Парсифаля» показывает нам, что произошло с Вагнером в эти годы. «Парсифаль» — осенний пейзаж, с деревьев облетели листья, выпал иней, солнце скрылось за облаками. Эта музыка полна достоинства — отмечена подлинной взволнованностью, бескомпромиссной суровостью стиля, мудрым распределением красок. Но эта музыка создана утомленным человеком, которому недостает того, что всегда составляло магию вагнеровской музыки, — недостает вулканической фантазии. Священный Грааль — он в «Парсифале» лишь туманный образ без ясных очертаний в отличие от того Грааля, который был символом Лоэнгрина… Быть может, король Людвиг руководствовался инстинктивным ощущением подобного свойства, когда пожелал сравнить с «Парсифалем» вступление к «Лоэнгрину», а Вагнер почувствовал себя задетым — быть может, этим и объясняется недовольство, с которым он прореагировал на каприз короля. В «Парсифале» все как бы взято из вторых рук, правда из рук большого мастера. Когда во вступлении полный оркестр исполняет тему причастия, сначала звучавшую одноголосно, гармония — сказочна, звучание оркестра неземное. И только недостает самого нерва, благодатного вдохновения. И нет его, за исключением нескольких более оживленных тактов в миг появления Парсифаля, до самого конца бесконечно длинного первого действия, где две трети времени уходят на неугомонную болтовню Гурнеманца, который должен вынести на себе все бремя экспозиции. А финал первого действия — вновь словно величественный собор; правда, воздействие финала зависит по преимуществу от распределения обширных спокойных плоскостей конструкции.