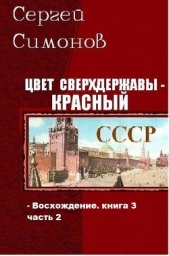О тех, кто предал Францию
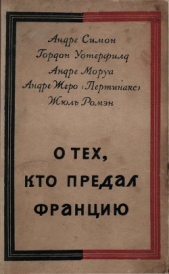
О тех, кто предал Францию читать книгу онлайн
Андре Симон "Я обвиняю"
Книга вышла на английском языке в 1940 году в Нью-Йорке в издательстве "Dial Press" под заглавием "J'accuse! The men, who betrayed France". По предположениям иностранной прессы, автор её -- видный французский журналист, который не счёл возможным выступить под своим именем. В настоящем издании книга печатается с некоторыми сокращениями.
Гордон Уотерфилд "Чтo произошло во Франции".
Книга выла в 1940 году в Англии под названием "What happened to France". Автор её состоял корреспондентом агентства "Рейтер" при французской армии. Настоящий перевод сделан по извлечению из книги, напечатанному в некоторых номерах англо-египетской газеты "Egyptian Gazette" в октябре 1940 года. В настоящем издании печатается в сокращённом виде.
Андре Моруа "Трагедия Франции"
Книга видного французского писателя А. Моруа вышла на английском языке в 1940 году в Нью-Йорке в издательстве "Harper and Brothers", под заглавием "Tradegy in France, An eye-witness account". Так как книга ещё не получена в СССР, настоящий перевод сделан по немецкому переводу, напечатанному в нескольких номерах газеты "Neue Zuricher Zeitung" за октябрь 1940 года.
Андре Жеро (Пертинакс) "Гамелен".
Статья видного французского журналиста Пертинакса напечатана в американском журнале "Foreign affairs", в номере за январь-март 1941 года.
Жюль Ромэн "Тайна Гамелена", "Kтo спас фашизм", "Тайна наци".
Здесь даны три из семи статей видного французского писателя Ж. Ромэна, которые печатались в американском журнале "Saturday Evening Post" в номерах за сентябрь--ноябрь 1940 года под общим названием "Seven mysteries of Europe" ("Семь тайн Европы").
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поистине это было первое собрание человечества — амфиктионы современного мира.
Кулуары ассамблеи представляли собой не менее примечательное зрелище. Не было тех рассеянных улыбочек, небрежных замечаний, которые при других обстоятельствах считались здесь признаком хорошего тона. Лица были серьезны, иные взволнованы, некоторые даже полны какого-то восторга. Я встретил авгуров с Кэ д'Орсэ — Леже и Массильи. Они сказали: «Великолепно!» Глаза у них блестели. В словах их не чувствовалось ничего, что бы напоминало пресловутый «скептицизм Кэ д'Орсэ». И они тоже считали, что мы присутствуем при созидании нового порядка.
Во время перерыва я подошел в вестибюле к Лавалю.
Они стояли вдвоем с Леже.
Я безо всяких вступлений сказал Лавалю:
— Да, господин председатель, это поистине величественно. И какая замечательная роль выпадает на долю Франции!
Он посмотрел на меня с какой-то смущенной, уклончивой улыбкой. Она словно говорила: «Ну, знаете, не будем увлекаться».
Я без церемонии продолжал:
— Существует одна вещь, и с ней надо покончить немедленно, потому что это позор для Франции. (Я слышал это от многих, как только приехал в Женеву, но я и сам отлично это знал гораздо раньше.) Часть нашей прессы подкуплена Италией — всем это известно — и они ведут позорнейшую кампанию. У вас есть возможность положить конец этому сраму.
Лаваль принял вид добродушного удивления:
— Ну? В самом деле? Подкуплены Италией? А не слишком ли это преувеличено? За плечом Лаваля Леже делал мне знаки: «Валяйте, валяйте! Выкладывайте начистоту!»
Я выложил все начистоту и совершенно ясно дал понять Лавалю, что он неправ, защищая продажную прессу. Он продолжал улыбаться, но видно было, что ему не по себе. Он придрался к какой-то фразе в разговоре и, воспользовавшись этим предлогом, шутливо сказал Леже:
— О-о! Я чувствую, что могу хоть сейчас укатить в Париж. Гм... А Жюль Ромэн здесь займет мое место.
Я встретил Идена, Политиса, Мотта, который несколько раз был председателем Швейцарской федерации, Беха — люксембургского премьера — и многих других. С каждым я поговорил, с одним подольше, с другими покороче. Все они были охвачены той же воспламеняющей верой. Идеи, как мне показалось, прямо горел воодушевлением и решимостью.
Я видел, как прошел барон Алоизи, представитель Италии на ассамблее. Он пытался улыбаться, но у него был вид человека, который проиграл свое дело и избегает глядеть людям в глаза. Так как к нему лично все очень хорошо относились, то его жалели, что ему, как итальянскому делегату, приходится нести на себе бремя всеобщего осуждения.
— В глубине души он думает то же, что и все мы, — сказал мне один из его друзей, — он сегодня несколько часов подряд пытался дозвониться по телефону к Муссолини, чтобы убедить того внять голосу рассудка. Но Муссолини, повидимому, от разговоров уклоняется.
После сессии мы вместе с Ланжевеном и Пьером Котом отправились в гости к нашему общему другу, Бенешу, который в то время был председателем Лиги наций. Мы успокоили Бенеша насчет истинного настроения французского народа.
— Да, — сказал он, — а Лаваль?
Мне пришлось признаться, что всего лишь какой-нибудь час тому назад Лаваль произвел на меня не очень приятное впечатление. Но, в противовес этому, настроение на Кэ д'Орсэ было, повидимому, удовлетворительно, сколько это возможно.
— Они его приструнят, — сказал я, — да и мы тоже будем присматривать за ним.
Мы говорили об историческом величии этого момента. Председатель Бенеш тоном глубокого убеждения сказал в точности следующее:
— Если мы выполним наш долг, то мир будет сохранен для всего мира по крайней мере лет на двадцать.
Затем мы стали толковать о Муссолини и о той судьбе, которая ждет его.
— Как правило, — заметил Бенеш, — он всегда в чемто просчитывался в отношении внешней политики. Тут он живет фальшивой репутацией.
Мы заговорили о Гитлере, который притаился и бездействовал. Из Берлина не было ни слуху ни духу. Националсоциалисты старались, чтобы их поменьше замечали.
— Да и они тоже вроде как попались, — говорили мы, — одно это сегодняшнее заседание, которое им не удастся скрыть от общественного мнения, произведет глубокое впечатление в Германии. Ведь если завтрашний день покажет, что политика насилия отныне невозможна, им ничего не останется, как закрыть лавочку.
Мой друг Сальвадор де Мадарьяга — один из самых блестящих умов вчерашней Европы,—который был выбран на пост председателя «комиссии пяти» и «комиссии тринадцати» и поэтому лучше, чем кто-нибудь другой, знал все перипетии абиссинского вопроса, любезно пригласил меня обедать в Отель де Берг и подарил мне целый вечер. Нас было четверо или пятеро. Мадарьяга тоже был полон воодушевления и уверенности.
На своем прекрасном французском языке, с легким оттенком акцента, который мог бы сойти за выговор Бордо или Байонны, он, пожимая мне руку, сказал:
— Муссолини теперь конец.
И тут же, обобщая это положение, как это мы всегда делаем мысленно, он сказал то же, что говорил и Бенеш, но более просто:
— Если только мы будем понастойчивей, мир вскоре избавится от всех этих тварей. Да, дружище, снова можно будет приняться за работу и дышать свободно.
Затем он стал рассказывать разные анекдоты и подробности. Мы говорили о том, как должен чувствовать себя Муссолини, и о том, как он будет вести себя в ближайшее время.
— Ему уж нельзя отступить, — сказал Мадарьяга, — он зашел слишком далеко. Слетел бы немедленно. Так что ему придется теперь тянуть до того времени, пока уж это не станет совершенно немыслимым. Он придумает себе какой-нибудь театральный конец. Кое-кто из здешних итальянцев говорит, что они уж знают, как это произойдет: он усядется на свой самолет и бросится оттуда в море. Ну, а другие думают, что самая разнузданная часть фашистской партии, те, у кого на совести самые крупные преступления и кто знает, что им не сносить головы, пустятся во все тяжкие и все на полуострове зальют огнем и кровью, прежде чем их самих вздернут.
Затем Мадарьяга сказал — шутя, но, может быть, в его испанской душе к этой шутке примешивался и легкий оттенок веры:
— Вы знаете, что у Муссолини гороскоп — мне это наднях рассказывал один астролог—совершенно такой же, как у Наполеона, только более заурядный. Звезды предвещают ему гибельный конец, и примерно в том же возрасте, и выходит, что его постигнет смерть на море. Умереть на острове св. Елены—это ведь в своем роде смерть на море, не правда ли? Аэроплан только модернизирует все это.
Таковы были мечты об избавлении, которыми в те памятные октябрьские дни мир жил через своих представителей в Женеве. И говоря «мир», я не делаю ошибки, ибо кое-кто из моих американских друзей, которых я встретил на другой день—например, Эдгар Моурер, — были совершенно так же, как и мы, воодушевлены нашей великой надеждой. Знаменитый лозунг, такой прекрасный, такой благородный, ибо он позволял надеяться на все, лозунг, над которым столько раз глумились сами события,— «Сделаем мир безопасным для демократии», — снова развевался на мачте, и его радостно приветствовали свободные народы.
2 декабря, на исходе дня, я шел в Бурбонский дворец повидаться с моим старым приятелем Ивоном Дельбосом, который был тогда вице-президентом палаты депутатов. Он принял меня в одной из уютных, заново отделанных комнат, которые назывались «кабинетами вице-президентов». Я уже забыл, о чем я собирался с ним тогда потолковать. Он казался рассеянным, а в то же время он точно был поглощен каким-то внутренним волнением, как человек, у которого стесненье в груди от чего-то очень приятного, например, от тайны новой любви, о чем он не хочет говорить.