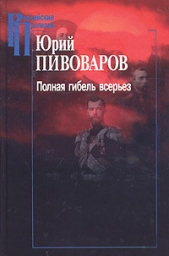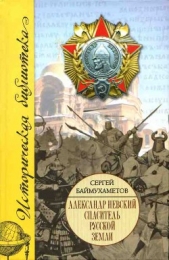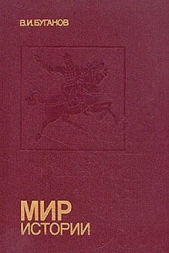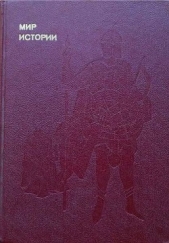Ложь и правда русской истории

Ложь и правда русской истории читать книгу онлайн
Эта книга будет раздражать многих. Причем людей диаметрально противоположных взглядов: либералов и консерваторов, западников и славянофилов, коммунистов и монархистов, антиклерикалов и клерикалов. Есть такой психологический закон: полная правда неприятна всем. Осознанно или неосознанно человек выбирает для себя только ту часть правды, которая ему приятна. А ведь не случайно говорят, что мы — страна с самым непредсказуемым прошлым. Книга Сергея Баймухаметова исследует ключевые моменты нашей истории от Рюрика до Путина и читается как исторический детектив.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С давних времен меня мучил один вопрос: почему мы так отступали? Уже к 9 июля фронт проходил по линии: Псков — Великие Луки — Витебск — Смоленск — Рогачев — Гомель. То есть за семнадцать дней гитлеровцы заняли Прибалтику, Белоруссию, Западную Украину и подошли к Киеву — как это могло случиться? С приходом гласности стали появляться новые, скрываемые прежде цифры и факты. Можно сказать, ошеломительные. Пропагандистские штампы прошедших времен о невероятном превосходстве противника в живой силе и особенно в технике оказались обыкновенным враньем. На самом же деле это мы имели превосходство: в танках — в три раза, в самолетах — в два раза, в пушках и минометах — в полтора раза. И тем не менее к концу 1941 года только в плен попали 4 000 000 (четыре миллиона!) советских солдат. (По данным ВНИИ документоведения и архивного дела.)
Что же там происходило такое, что четыре миллиона пленных за полгода? И, главное, — почему?
Единственное бесспорное преимущество гитлеровцев — внезапность нападения. Но при любой внезапности просто невозможен такой разгром, такое паническое отступление. Тут была какая-то загадка…
И ни в одной книге не находил я убедительного объяснения. Конечно, и отца спрашивал, но он не испытал отступления, он начал войну в октябре 41 года под Москвой, в переломный момент. Это была смертельная оборона, но он стоял лицом к врагу, сражался, а это совсем другое знание, другой опыт… Он не понимал моих вопросов и отвечал пропагандистскими штампами…
Но тем не менее при любых встречах-разговорах с ветеранами исподволь заводил я такой разговор… А со временем и случай мне помог. Переехав из центра в московский район Свиблово, по утрам гуляя с собакой к газетному киоску, стал встречать я в сквере соседа по нашему громадному дому-кораблю — щуплого беленького старика, тоже с кипой утренних газет. А газеточитатели, сами знаете, не могут не обменяться мнениями. Так мы с ним и начали время от времени вместе гулять по скверу, разговаривать.
Сразу должен сказать, Максим Михайлович Вершаков — очень скептический человек, иногда даже резкий… В День Победы он на торжества не ходит и чаще всего ворчит, листая газеты. Телевизор его злит: он говорит, что празднование, ликование наше непомерное — это пляски на костях. И ко многим рассказам о войне относится настороженно…
— Понимаете, — говорит, слегка заикаясь, Максим Михайлович, — войну как прямое столкновение с врагом знает мало людей, мало кто выжил. Передний край, окоп — это взвод, рота. В штабе батальона можно уже оглядеться. В штаб полка командиры батальонов идут, как бригадиры с полевых станов в деревню: отдохнуть можно, на людей посмотреть… Штаб дивизии — все равно что центральная усадьба совхоза, большое село. Штаб армии — как райцентр, а уж штаб фронта — город! И везде, в самых разных подразделениях, от полковых до фронтовых, служили миллионы людей. В окопах было меньшинство живых участников войны. А громадное большинство — обеспечивало передний край. Они делали свое дело, очень важное, без них никакой войны не могло быть. Но в непосредственный контакт с противником они не входили, окопа не знают… Но с годами, наверно, что-то происходит с памятью, чужое выдается уже за свое. И вот они уже от себя начинают рассказывать то, что слышали от окопников, при этом многое путают и перевирают. Потому что о войне, если не знаешь, соврать не получится, обязательно на какой-нибудь мелочи промашка выйдет… Ну и ваш брат-журналист тоже много сочиняет, сам не понимая. Вот читал: один вспоминает, как Рокоссовский, выйдя из штаба, пошел по лощине, которую со всех сторон обстреливают минами. Кругом разрывы, раненые падают, а Рокоссовский идет, не склоняя головы… Это смешно! Понимаете, даже при такой плотности обороны, какая была под Москвой, штаб армии все равно находится на большом отдалении от линии фронта. Иначе войсками управлять невозможно. До штабов дивизий и армий мины не долетают. И не должны комдивы и командармы под обстрелом сидеть, у них другие задачи… А журналист из Москвы приехал в штаб армии и решил, что попал в самое пекло… Про меня в армейской газете написали: «Русский богатырь сержант Вершаков». Не видел меня тот журналист, по штабным донесениям, наверно, писал. А я самый маленький в батальоне, самый слабый, надо мной потом хохотали: «Илья Муромец, едрена корень!»
Вот такой человек Максим Михайлович Вершаков, мой сосед по дому в Свиблове. Его рассуждения интересны сами по себе. Но дело еще и в том, что Максим Михайлович — один из немногих (может, их сейчас вообще единицы), кто встретил войну в первые часы и минуты, на западной границе, в танковом полку в Подгорцах. Вот его-то, когда мы уже поближе сошлись, я и попросил объяснить, мнением своим поделиться, почему же мы так отступали…
— Наш полк начали бомбить в первые же минуты, мы ведь стояли у границы, — начал свой рассказ Вершаков. — Срочно покинули казармы и расположились в соседнем лесу. Отрыли окопы, замаскировали танки и машины ветками. Но никто еще не верил, что началась война. Замполиты повторяли одно слово: «Провокация».
Как понимали мы, рядовые, никакой связи с командованием и никаких приказов не было. Потому что стояли мы в том лесу три дня почти без единого выстрела. А над нами шли немецкие самолеты, ночами горизонт полыхал… Понятно было, что немцы обходят нас со всех сторон. На третий день в наш лес, по проселочной дороге, зарулила группа немецких мотоциклистов — первые гитлеровцы, которых мы увидели. Заблудились. Мы их ссадили, разоружили, все сбежались смотреть. Я до сих пор помню, как они себя вели. Они держались как хозяева, как будто ждали, что мы сейчас бросим оружие и всем полком сдадимся им в плен. Потом нас, солдат, отогнали командиры, особисты пришли, немцев повели на допрос…
Простояв в лесу три дня, мы колонной выдвинулись на дорогу к Тарнополю. Как только вышли из леса, тут же начались бомбежки. Мы надеялись, что там будет сборный пункт. Подошли — а Тарнополь уже горит, занят немцами. И мы пошли в обход. Но после Тарнополя, после бомбежек, полка как такового уже не было, были отдельные группы бредущих в отступление людей. Мы попали в общий поток отступающих, таких же, как и мы, растерянных, ничего не понимающих. Шли под бомбежками, убитые оставались в канавах, на обочинах. Солнце палило нещадно. Мы шли без отдыха, четверо суток без крошки хлеба во рту, со сбитыми в кровь ногами. Кто-то разулся и шел босиком.
Я вышел потому, что прибился к лейтенанту из нашего полка. Я слабый был, в голодный 21-й год родился и рос в голодной деревне… Тощий двадцатилетний пацан. А этого лейтенанта я сразу приметил в нашем городке. Мы еще не знали друг друга, полк только сформировался. А про него говорили, что он отвоевал Финскую… Вот я за него и держался, ни на шаг не отставал: боевой офицер, выведет.
Среди нас все время ходили разговоры, что вот дойдем до старой границы — и там остановимся, там дадим бой. Мы знали, что Шепетовка — старая граница. Но выйти к ней точно не смогли, только видели вдали полыхающее зарево. Так и прошли старую границу, ничего не заметив. Вышли к Волочиску, а оттуда уже на Проскуров…
Когда в газетах стали печатать сведения, которые раньше не печатались, я выписал в тетрадку одну цифру. За те первые недели войны в плен попали 700 000 солдат и офицеров только нашего Юго-Западного фронта. Семьсот тысяч!
Но ведь пленных могло быть и больше. Я вспоминаю, что был день, когда мы с немцами шли рядом. В одном направлении, на восток. Они шли по параллельной с нами дороге. Иногда можно было их видеть. Пехота шла колоннами. Много солдат ехало в машинах, впереди и сзади мотоциклисты. Отдельно двигались танки.
Так они и прошли…
С годами, вспоминая, я стал думать: почему мы отступали без боя? Ведь среди нас были наши командиры, но за дни отступления я их почти не видел и не слышал, офицерского командирского голоса не слышал….
Теперь мы знаем, что до войны командный состав нашей армии был подвергнут страшным репрессиям. От лейтенантов до маршалов. Значит, обстановка среди командного состава была такая, что люди были деморализованы. Они боялись не немцев, а собственного начальства. Боялись отдать какой-нибудь приказ самостоятельно, без приказа сверху. Никто не осмелился взять на себя ответственность и организовать на каком-нибудь рубеже оборону. Просто отступали.