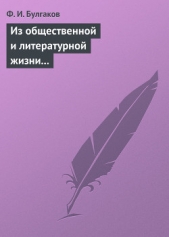Гарденины, их дворня, приверженцы и враги

Гарденины, их дворня, приверженцы и враги читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
"Очень рада... очень... рада. Как ты постарела, Фелицата!" - устало улыбаясь, говорила Татьяна Ивановна, в то время как управитель и конюший целовали ее руку, а экономка, всхлипывая, но с сияющим лицом, прикладывалась к плечику. Вслед за матерью, отстраняя управителя и конюшего, выпрыгнула Элиз. "Здравствуйте, Мартин Лукьяныч!.. Здравствуйте, Капитон!.." - выговорила она, пряча руки, застенчиво улыбаясь и краснея. "Царевна ты моя ненаглядная!" - ринулась к ней Фелицата Никаноровна; Элиз обняла ее и, глубоко растроганная, крепко, в обе щеки поцеловала. Старуха так и залилась слезами. Из подъехавшей затем коляски вышел Раф с гувернером, и его окружила дворня; расточали льстивые слова, ловили я целовали руки... "О, русски мужик - чувствительни, деликатни мужик! внушительно говорил Рафу немец Адольф Адольфыч, - русска дворанин имеет обязанность благодеять на свой подданный!" Тем временем Татьяна Ивановна благосклонным мановением головы раскланялась с дворней и в сопровождении управителя, конюшего, экономки, лакея Степана и еще трех-четырех почетнейших лиц вошла в дом; в передней она остановилась, снимая перчатки, милостиво посмотрела на предстоявших, поискала, что сказать... Вдруг грустная улыбка показалась на ее губах:
- Бедный Агей... умер? Неужели нельзя было помочь? Надеюсь, ты, Лукьяныч, выписал медикаменты? - Личико Фелицаты Никаноровны исказилось, она хотела что-то сказать и не могла и, чтобы скрыть свое волнение, бросилась к Рафу, с которого по крайней мере полдюжины рук стаскивали шинельку: "Ангелочек ты мой!.. Красавец ты мой!.. Уж и вы, батюшка, в казенном заведении!.."
На Рафе была пажеская курточка.
- Все меры прилагали, ваше превосходительство, - с прискорбием отвечал Мартин Лукьяныч, - воля божья-с!
- Да, да... - Татьяна Ивановна легонько вздохнула. - Ну что, Капитон, к тебе сын приехал? Очень рада. Вот отдохну, можешь привести, посмотрю.
- Слушаю-с, ваше превосходительство. Он по глупости неудовольствие вам причинил... Простите-с. Молод-с.
- Ничего, ничего, я не сержусь. Очень вероятно, что Климон неудачно исполнил мое поручение. Не беспокойся, Капитон. В Хреновое отправил эту лошадь?
- Никак нет-с. Послезавтра думаем.
- А!.. Ну, можете идти. Да, Лукьяныч! Обед по случаю нашего приезда, угощение, награды - все как прежде.
- Слушаю-с. С докладом когда прикажете являться, сударыня?
- Как всегда, я думаю... И ты, Капитон, являйся.
Утром. Идите с богом.
Дворня тем временем кишела у девичьего крыльца, куда подъехал тарантас с тремя петербургскими горничными:
Амалией, Христиной и Феней. В кухне отчаянно барабанили ножи.
Управитель и конюший медленно возвращались домой.
Оба они были довольны встречей, но им предстояли всякие заботы, и потому оба были задумчивы.
- М-да... Хреновое... - бормотал Капитон Аверьяныч, - если бы только Цыган этот...
- Э! Охота вам опять о Цыгане! Поверьте, отличнейший наездник, - утешал Мартин Лукьяныч, сам думая совсем о другом.
По дороге из степи показались два человека: один размахивал каким-то листом, другой шел, потупив голову.
- А это ведь наследники наши, - сказал Мартин Лукьяныч. - Чем бы госпожу встретить, они, покорно прошу, где прохлаждаются!
- М-да, - пробормотал Капитон Аверьяныч, угрюмо сдвигая брови, - новые птицы, новые песни... - и неожиданно добавил: - а все оттого, что пороли мало!
Шли действительно "наследники". Они познакомились только вчера. Ефрем держал в руках "Сын отечества"
с статьею Н. Pax - го и говорил:
- Семейные разделы, поборы попа, - вы думаете, это очень важно? И вам представляется - будут всякие блага, если поп станет брать меньше? И в разделах, значит, усматриваете прискорбный факт? Вы сами-то с удовольствием бы очутились в шкуре детей этого Ведения, о котором рассказываете?
- Но ведь раззор, Ефрем Капитоныч... - робко возражал Николай.
- А кто виноват? Вы разве не думали об экономических условиях? Разве не лучше бороться с общими причинами разорения?.. Мы с вами, например, фактически отделены от наших родителей. Но представьте, что какой-нибудь досужий корреспондент скорбит об этом, рекомендует навек закрепостить нас вот тут, в этом благословенном болоте, - Ефрем махнул рукою по направлению к усадьбе, - потребует, чтобы мы повиновались "главе семьи", встречали бы без шапок какую-нибудь госпожу Гарденину... Что бы вы сказали досужему корреспонденту?
- М-да... об этом придется поломать голову, - ответствовал Николай, стыдясь за свою статью и за свои "дикие" мнения, но вместе с тем не решаясь сразу согласиться с Ефремом.
III
Что чувствовал Капитон Аверьяныч к Ефиму Цыгану. - Как он проверял свои чувства. - Ефремова несостоятельность. - Сборы на бега. - Кузнец Ермил. Степь и странности Ефима Цыгана. - "Зовет!" - Лошадиный город. - Новости. - Княжой наездник Сакердон Ионыч. - Хреновская Далила.
Ефим Цыган был превосходный наездник; Кролик сделал под его руководством неимоверные успехи; а между тем Капитон Аверьяныч мало того что не любил Ефима, но чувствовал к нему какоето отвращение, смешанное с странною и необъяснимою боязнью. Главным образом это началось с зимы и все увеличивалось по мере того, как наступала весна, приближалось время вести Кролика в Хреновое. Да и все чувствовали страх перед Ефимом. Это по преимуществу было заметно, когда запрягали Кролика. Цыганские глаза Ефима загорались тогда каким-то диким огнем, синеватые губы твердо сжимались, все лицо получало отпечаток мрачной и сосредоточенной остервенелости. Он не волновался, не кричал, у него не тряслись руки, как у Онисима Варфоломеича, но вид его был настолько выразителен, такой запас неистовой страсти чувствовался за его наружным хладнокровием и размеренными движениями, что конюха ходили около него, как около начиненной бомбы.
И, разумеется, все делалось быстро, отчетливо, в гробовом молчании. Один держал повода, двое затягивали дугу, четвертый продевал ремни сквозь седёлку, пятый раскладывал по сторонам оглобель вожжи и подавал их концы Ефиму, чтобы тот самолично пристегнул пряжки к удилам; Федотка, в качестве поддужного, как врытый сидел в седле, затаив дыхание, впиваясь широко открытыми глазами в Ефима, чтобы, чего боже сохрани, не пропустить знака, вовремя приблизиться к дуге. Капитон Аверьяныч восхищался таким порядком, говаривал, что "у них" запрягают по "нотам", но вместе со, всеми не осмеливался даже звуком голоса нарушить стройность этой отчетливой, лихорадочно-быстрой и молчаливой работы, потому что боялся Ефима.
Разумеется, об этом и не подозревали в Гарденине.
Да и самому себе Капитон Аверьяныч ни разу не сознавался, что чувствует страх перед "каким-то наездником", тем более что не мог объяснить себе, что именно в Ефиме возбуждает такой страх. Когда Ефим напивался, становился буен, дерзок, лез в драку, когда его несчастная жена с окровавленным лицом выбегала из избы, оглашая всю усадьбу воплями и причитаниями, Капитон Аверьяныч совершенно безбоязненно брал свой костыль и шел усмирять Ефима или приказывал связывать его и собственноручно замыкал в чулан. Но именно во время "трезвого поведения" Ефима, когда дело у него великолепно спорилось, когда конюха в рысистом отделении ходили "по струнке", лошади блестели как атлас, Кролик "бежал" удивительно, - в Ефиме появлялось что-то такое, чего Капитон Аверьяныч не мог объяснить себе. Мало-помалу мысли об этом положительно стали мучить Капитона Аверьяныча и даже повергать его в какую-то неопределенную тоску.
Он заговаривал о Ефиме с тем, с другим, с третьим, разумеется, всячески стараясь не выказать своих опасений и своей безотчетной тревоги, потому что это было бы очень уж смешно и унизительно.
Так, однажды, сидя дома за вечерним чаем, он ни с того ни с сего покинул недопитый стакан, торопливо оделся, взял костыль и, ни слова не говоря изумленной жене, направился к Мартину Лукьянычу. Там тоже пили чай.
- Вот и я, - с некоторым замешательством объявил Капитон Аверьяныч, нацеди и мне, Николай Мартиныч!