Подконвойный мир
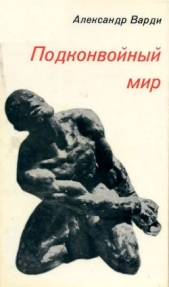
Подконвойный мир читать книгу онлайн
Беллетризованные воспоминания бывшего заключенного, эмигранта, многие годы собиравшего фольклор сталинских лагерей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Журин решил повидать Трофимова. Хотел отговорить его от расправы с Шестаковым.
В бараке воров первым бросился в глаза Гарькавый. Сидел он на нижних нарах, пощипывал гитару, и пел:
Это, видно, был конец песни, ибо Гарькавый, сменив мотив, продолжал:
Журин рассмотрел сидевшего возле замерзшего оконца Трофимова и подошел к нему. Трофимов оторвался от книги.
— А…а, вагонный фраер. Чего пожаловал? Барахлишко просить? Не пеняй — все загнали, проиграли, спустили, но коли худо тебе — помогу. Ты головастый. Еще пригодишься.
— Нет. Я не с этим. Хочу насчет Шестакова.
— Цыц! Полундра! — прижал Трофимов палец к губам. — Стены уши имеют.
Залезли на вторые пустовавшие нары. Трофимов спросил:
— Знаешь, где ховается?
— Нет.
— Ну, тогда не о чем говорить.
— Зачем вам за каждую мелочь убивать? — с болью произнес Журин. — Ну, ошибся человек, не знал ваших законов. Наложите в загривок. Но убивать? Это ж так только дикари делают. А вы, Сидор Поликарпович — начитанный человек. Не к лицу это вам.
— Так нужно нам. Мы должны показать сукам, что душок в нас жив. Их здесь больше, чем нас, и потом знаешь, о чем спросил Шестаков сразу же, как пришел на лагпункт? — «Где тут оперуполномоченный?» — Ясно? Шестаков — это сука из вашего огорода. Вижу насквозь. Подлее всех. Он вкапался, гадюка, схвачен на живце.
— Сидор Поликарпович, это же предположение. Зачем вам умножать кровавый счёт? И без вас разные терзатели обескровили народ. Ради матери своей, не губите, пока не доказана вина.
Трофимов молчал. То ли думал. То ли прислушивался к очередной жалобной песне. Печальные раздумчивые мотивы были в сегодняшнем репертуаре Гарькавого. Прислушался и Журин.
— Да, мы — подлецы, — прервал молчание Трофимов. — Более того: мир не знал и не знает ничего более беспощадного, но нас такими создали наши правители по образцу и подобию своему. Это они призывают убивать, грабить, мучить всех, кто не с ними. Это они прививают беспощадность, доносничество, враждебность и недоверие ко всем — как черты советского характера. Это их девиз: «Беспощадно уничтожай классового врага!» «В коммунизм войдут только достойные, а остальных — на свалку истории!» «Если враг не сдаётся — его уничтожают!». «Смерть врагам народа!». «Бей космополитов и низкопоклонников перед Западом!». «Кто не с нами — тот против нас!». «Истребим частную собственность!».
Трофимов выкрикивал лозунги срывающимся модулирующим голосом. Перед глазами его плыли оскаленные хари советских горлохватов. Он передразнивал их площадные выкрики и наслаждался тупостью, недальновидностью, звериным примитивизмом их злобного рыка.
— Тише! Тише! Голубчик! — тряс Трофимова за плечо Журин. — Не так громко! Сам, ведь, говорил, что стены уши имеют. Здесь может быть подслушивающий микрофон, как в тюремных камерах.
Трофимов вздрогнул.
— Мне наплевать, но ты — фраер-малосрочник, так сбавим парку.
— Знаете ли вы о притонах для кремлевцев? — ожесточенно, страстным полушопотом вопрошал Трофимов. — О притонах, где эти гниющие старцы растлевают малолетних девочек? Вы этого не знаете, но знаем мы. Нет счёта их преступлениям. Нет ничего чудовищнее, низменнее, подлее кремлёвских шишкомотов. Они выстругали, вылепили нас — ожесточенных, оподлевших, бессовестных, кровожадных людей, научившихся у правителей маскировке, лицемерию, притворству, рисовке. Все мы замутнёны, развращены, или соучастием в преступлениях шишкомотов или под прессом этих массовых преступлений.
Трофимов закашлялся. Хватал большим запекшимся булькающим ртом нашатырную портяночную прель барачного воздуха. Лицо его стал подергивать нервный тик. Угли-глаза еще глубже провалились в подбровные теснины. Он весь дрожал и дергался.
— Что ты хочешь от меня, фраер?! — вырвался наконец клёкотный сдавленный ненавидящий крик. — Иди! Не вмешивайся и не вздумай трёкать. Слышишь?! Ни одной живой душе! Я сказал тебе лишнее. Ты знаешь меня. Иди!
Сжигающий злобный взгляд провожал Журина, а Гарькавый напутствовал очередным стоном изболевшейся души.
За теплой влажной прелью барака Журина охватил, ослепил, понес снежный шквал; злющий колючий пронизывающий ветер протяжно надрывно выл:
— У…у…убью! У…бью… у…у…у..!
— Вы были у воров? — спросил в бараке Пивоваров. — Вам удалось помочь Шестакову? Я сразу понял, куда вы ушли. Хотел с вами, но вспомнил этих вагонных драконов и остался.
— Страшные люди, — произнес Журин, залезая на нары, — против всего на свете ожесточены.
— Люди как люди, — отозвался Солдатов, почесываясь. — Обыкновенные люди и злоба обыкновенная. Вот, скажу я вам, сидел я недавно в камере вдвоем с мужчиной. Матёрый хват. Герасимовичем звали. Начальником автоколонны был в Подольске. В партии состоял. Долго сидели. Надоел — хуже тухлой селедки. Под конец стал я побаиваться, что или он меня сонного придушит, или я его. Ненависть такая друг к другу распаляется в этих подлых клетках — и ни за что. Просто — противен человек, каждое его слово, привычки, ужимки — все отвратительно, а тут еще — эта параша, безделие. Смотришь друг на друга день и ночь и некуда деться. Он читает твои мысли — ты его, и чувствуешь, что жить он тебе мешает, что ненавидит, хочет твоей смерти. Следователи это знают и часто таких стравленных петухов заставляют друг на друга брехать. Так и дело стряпают. — Так вот: Герасимович этот в дни, когда мы еще рассказывали разное друг другу от скуки и душевного беспокойства, такое выкладывал:
— Отступали мы, — рассказывал, — поодиночке летом 1941 года. Спасались, кто как мог. Набрёл я на окопчик в степи. Смотрю: сидит интеллигент. Очки, морда холёная, лоб с фантазией и обматывает левую ладонь мокрыми кальсонами. Под кальсонами — дощечка. Все честь честью, чтоб не догадались, что самострел. Только он это винтаря приставил и, зажмурясь, рукой дрожащей собачку нашарил, я — как гаркну. Он и сел, обомлел. Я — к нему. Обшарил. Смотрю: партийный билет, удостоверение: заведующий районным земельным отделом. Очнулся он, в ногах валяется, просит, чтоб не выдавал. Забрал я у него планшетку — понравилась, мотнул слегка сапогом в рыло и поканал. Чувствовал, что зверь во мне пробуждается, кровь клокочет как суп в горшке. После пожалел, что не тюкнул. От таких вся чернуха в жизнь пёрла: кампании, садиловки. Всюду фронты и со всеми борьба. С каждой Марфой борись: «На капустном фронте», «на сорняковом фронте» — всюду человеку юшку пускают и жилы выматывают.
























