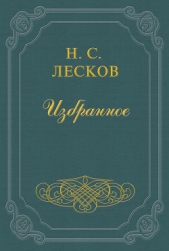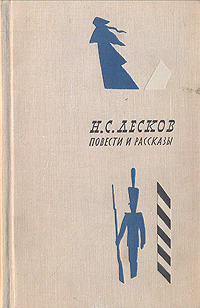Запечатленный труд (Том 1)

Запечатленный труд (Том 1) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осенью по возвращении матери тяжело было выйти в первый раз на свидание. И чем дальше, тем тяжелее становился этот выход из одиночества, из молчания. Зачем? Зачем изменять темп жизни, естественный порядок дня и настроение? Зачем нарушать душевное равновесие 20 минутами, в которые не знаешь, что сказать, о чем просить, и, вернувшись к себе, долго не находишь успокоения, чтобы вновь замереть на две {366} недели? Каждый раз, когда жандарм отпирал дверь и произносил: "На свидание!", так хотелось отказаться, сказать: "Не хочу, не надо". И только мысль, что мать и сестра будут испуганы, огорчены, заставляла встать и идти.
Прошло много времени. Не знаю, когда именно однообразие одиночества было прервано волнующим обстоятельством: меня вызвали в канцелярию. Там меня ждал Романов, один из 10 молодых товарищей прокурора, которые вели следствие по делу будущего процесса.
- Вера Николаевна, - приступил он, - я приехал к вам по особому обстоятельству и обращаюсь к вам, потому что знаю, вы скажете правду.
Удивленная и обеспокоенная таким вступлением, я спросила, о чем идет речь.
Он продолжал:
- По делу о побеге Василия Иванова из Киевской тюрьмы судили двух тюремных надзирателей, обвиненных в пособничестве Иванову. Они осуждены на каторгу и уже отправлены в Сибирь. Между тем офицер Тихонович, привлеченный по одному делу с вами, совершенно определенно показал, что вывел Иванова из камеры и из тюрьмы он во время своего дежурства на карауле и притом без какой бы то ни было помощи со стороны других лиц. То же самое утверждает и Никитина, которая о побеге Иванова вела предварительные переговоры с Тихоновичем. Показания их обоих я привез с собой, и вы можете прочесть их. Однако сам Иванов упорно отрицает свидетельство Тихоновича и говорит, что его побег совершен через пролом в печке и что надзиратели содействовали ему в этом. Нам необходимо ваше свидетельство: от него зависит участь осужденных. Их дело будет пересмотрено, и они могут быть возвращены. Скажите же, какое из двух утверждений соответствует истине?
Он развернул две привезенные им большие тетради, и я прочла то, что показывали Тихонович и Никитина. Это вполне соответствовало рассказу, слышанному мной от самого Иванова: тюремщики ничего не знали о предприятии Иванова, пролом в печке был так мал, {367} что нельзя было поверить, чтобы человек такого молодецкого сложения, каким обладал Иванов, мог пролезть в отверстие: оно было сделано специально для отвода глаз, чтобы не навлечь подозрения на офицера, который отпер дверь. Почему Иванов, несмотря на категорическое заявление Тихоновича, упорствовал, оговаривая тюремных надзирателей и отправляя их на каторгу, мне было непонятно. Я чувствовала недовольство и досаду на его поведение. Приходилось или обличать во лжи товарища, с которым была связана и партийными, и дружескими отношениями, или сделаться соучастницей его лжи и предоставить надзирателей их судьбе. Я колебалась: стыдно было сделать и то и другое.
Попросив у Романова несколько минут на размышление, я решилась и написала заявление, что мне достоверно известно, что надзиратели совершенно непричастны к устройству побега В. Иванова из тюрьмы.
Я живо припомнила этот эпизод, в свое время очень тревоживший меня, когда впоследствии читала превосходную драму Ромена Роллана из времен Великой французской революции "Волки". В ней конфликт между партийностью и чувством справедливости поставлен широко и кончается в ущерб последней.
Вызов по делу о побеге Иванова, нарушив однообразие настроения, всколыхнув и напомнив о многом, уходил вдаль, а губительная тишина и молчание делали свое дело, когда весной 1884 года меня опять позвали в канцелярию. Там я застала Добржинского и генерала Середу. У стола, заваленного большими тетрадями в переплете, они сидели усталые, озабоченные, с какими-то особенно серьезными лицами **.
______________
** Это было заключение следствия, как я потом догадалась (потому что они не сказали мне этого).
- Вы узнаете этот почерк? - спросил Добржинский, положив передо мною особую непереплетенную тетрадку.
Я не знала почерка и сказала:
- Нет.
Тогда он повернул всю тетрадь и указал подпись. Там стояло: Сергей Дегаев, число и месяц. В памяти осталось 20 ноября, но, должно быть, это была ошибка: {368} типография в Одессе была арестована 18-го, по другим указаниям - 20 декабря.
Затем, развертывая одну страницу за другой, Добржинский указывал мне отдельные места в тетради, другие же прикрывал рукой.
Не оставалось сомнения, предо мною лежал документ величайшей важности: он предавал в руки правительства все, что автор знал из имеющего отношение к партии. Не только сколько-нибудь видные деятели были названы по именам, но и самые малозначительные лица, пособники и укрыватели разоблачались от первого до последнего, поскольку автор доноса имел о них сведения. Военные на севере, на юге были изменнически выданы поголовно: от военной организации не оставалось ничего.
Все наличные силы партии были теперь как на ладони, и все лица, причастные к ней, отныне находились под стеклянным колпаком.
Я была ошеломлена. Дегаев! И это сделал Дегаев!.. Несколько минут, вскочив с места, я ходила взад и вперед по комнате, в то время как Середа и Добржинский молча перелистывали страницы привезенных фолиантов.
Когда я вернулась на свое место, Добржинский стал показывать мне показания офицеров: Крайского, Маймескулова, Талапиндова и других южан. Каждое начиналось постыдными словами: "Раскаиваясь в своих заблуждениях, сообщая..." и т. д. Раскаивались 35- 40-летние мужи. Раскаивался Крайский, в которого я верила и которого так хотела привлечь в партию, возлагая на него много надежд как на человека твердого, с характером сильным, который не отступит.
Все эти заговорщики, обещавшие по призыву своего центра выступить с оружием в руках и отдать жизнь делу народа, теперь малодушно отказывались от того, что они исповедовали и на что давали слово. Они "заблуждались", они, много лет рассуждавшие на темы о революции, о баррикадах и пр. Эти показания производили жалкое впечатление; но что значили они перед тем, что сделал Дегаев, который колебал основу жизни - веру в людей, ту веру, без которой революционер {369} не может действовать? Он лгал, притворялся и обманывал; он выспрашивал, чтобы предать, и в то же время льстил и восхвалял. Множество нитей соединяло меня с ним и со всей его семьей; он был тесно связан со множеством товарищей, которые являлись дорогими, казалось, для нас обоих. Это был не провинциальный офицер, окруженный уездной серенькой средой, неопытный и никогда не бывавший в лапах полиции. Он четыре года действовал на революционном поприще среди отборной группы товарищей, не раз имел дело с жандармами, рисковал своей свободой и имел совершенно определенную политическую репутацию. Его побег был мнимым; его освободила полиция, чтобы замаскировать его предательство, и, начав с измены, он сделался провокатором, чтобы, вовлекая в революционное движение десятки новых людей, отдавать их тайно в руки правительства. Испытать такую измену значило испытать ни с чем не сравнимое несчастье, уносящее моральную красоту людей, красоту революции и самой жизни. С идеальных высот я была низвергнута в болото земли...
Когда после этого я в первый раз вышла на свидание, родные поняли, что со мною случилось нечто потрясающее...
Мне хотелось умереть. Хотелось умереть, а надо было жить. Я должна была жить, жить, чтобы быть на суде - этом заключительном акте деятельности активного революционера. Как член Исполнительного комитета, я должна была сказать свое слово - исполнить последний долг, как его исполняли все, кто предварил меня. И, как товарищ тех, кого предал Дегаев, я должна была разделить до конца участь, общую с ними.
Но жить было возможно, только забив ум чем-нибудь не имеющим отношения к несчастьям революции: надо было весь день без отдыха занять себя какой-нибудь работой. Я принялась за изучение английского языка, и так усердно, что через две недели читала в подлиннике историю Англии Маколея98. Это было бы невероятно, если б, как я много лет спустя вспомнила, я не взяла по настоянию начальницы с большой неохотой и малым успехом несколько уроков этого языка в {370} институте у англичанки. По-видимому, кое-какие следы от тех уроков в памяти все же остались и теперь через 16 лет воскресли.