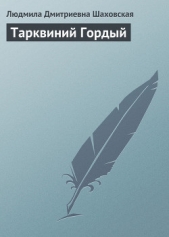Симеон Гордый
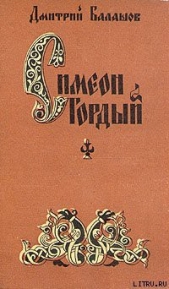
Симеон Гордый читать книгу онлайн
«Симеон Гордый» - четвертый роман из серии «Государи московские» - является непосредственным продолжением «Бремени власти». Автор описывает судьбу сына Ивана Калиты, сумевшего в трудных условиях своего правления (1341–1353) закрепить государственные приобретения отца, предотвратить агрессию княжества Литовского и тем самым упрочить положение Московского княжества как центра Владимирской Руси.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Дочерь! Мария, Маша! – сказала Настасья. – Поздравствуй князя Семена Иваныча!
Маша вскинула голову, вперила взгляд, глаза в глаза, побледнев и отемнев взором, кивнула с медленною натугой, сказала-прошептала приветствие. Князь Семен глядел, полураскрыв рот. Запоздало, когда девушка уже отворотила лицо, нетвердо, будто бы с удивлением, произнес:
– Здравствуй!
«Что ето с им? – подумала Настасья. – Словно оробел перед чем?» Но Симеон уже овладел собою, свел брови, выпрямил стан, густая кровь прилила ко щекам. Оглянул на бояр и дружину, прошел-прошествовал в покои, куда уже звал его, приглашая, князь Костянтин…
Пока там приводили себя в порядок с дороги, чистились, вздевали иные порты, омывали под рукомоем лица и руки, в обширной повалуше уже накрывали камчатными скатертями столы, разоставляли серебряные и резные из капа солоницы, вносили блюда с хлебом, подносы с холодными закусками. Уже с поварни, продев шесты в проушины котла, четверо слуг готовились нести дымящую паром уху из волжских стерлядей, уже и скоморохи в углу палаты приударяли по струнам – за хлопотами Настасья и думать забыла о странном погляде московского князя на встрече в сенях. Думы теперь были о пироге, кулебяке, да не подгадили ли Феня с Малушею, что осаживали и раскатывали давеча тесто, да не подвела ли старая печь в хлебне… Когда начали наконец заходить за столы, воздохнула обреченно: ну, теперь, ежели и неметно што, не исправишь уже! Отерла лоб и щеки, оправила повойник и плат – не стряпухою же на люди себя являть!
И только за столами, когда пошли перемены за переменами и чаши вкруговую заходили повдоль столов, кинулось в очи, что князь Семен безотрывно глядит все на Машу и не ест и не пьет почти… Женатой мужик, и на-поди! Расстроилась даже… А Маша-то на него словно и не смотрит, умница! Ладно, пущай полюбует! Завтра уедет в Новгород, там уж и не бывать ему боле! Только успокоила сердце, а Семен-от Иваныч што и выдумал! Золотую чару легкого меду налил да и послал: Марии, мол, Александровне, прошу принять да выкушать! Тут уж (да через руки, от одного ко другому пошла чара-то, и кажной те слова повторит!) и Маша неволею глянула вновь на князя. Приняла гордо так, наклонила головку, отпила глоток, поставила перед собой. И князь с места воздал поклон, руку к сердцу приложил, благодарит… Сором! Покаяла, что и дочерь-то на пир пригласила; по-московски-то надоть было – одних мужиков созвать! А то за столами насупротив бояр – боярыни великие, новогородским побитом, да и сама, со змеей-Евдокией, тоже присела за столы. Все одно сором! Хошь и князь великий, дак и еще того боле сором!
Едва дотерпела до конца столов. Поскорей бы увести Машу в опочивальню, подале с глаз! А князь и тут подошел-таки и таково опрятно, негромко, с печалью высказал: просит-де не виноватить, ежели невольное грубиянство учинил; не хочу, мол, иньшей вины пред семьей князя Александра, и так премного виноват, и еще раз просит простить его и не поминать лихом. Маша побледнела, голову подняла, ноздри раздула, воздохня, и тихо так в ответ:
– Прощаю, князь! – И руку с платком белым приподняла, не то защищаясь от него, не то прощаясь с ним, а князь тоже приподнял пальцы и, уж не углядела Настасья, вроде слегка тронул ее за кисть – и тотчас руку отвел и голову наклонил. Тут уж Семена толпою оступили бояре, кмети, чужие и свои. Машу поскорей увела от греха, у самой сердце билось непутем: стыд-то, в самом деле!
Маша на пороге опочивальни на материны покорные слова остановила, поглядела словно бы мимо лица:
– Матушка, сама ведь прошала, выдь да выдь ко князю великому! – И, губку прикусив: – Поди ко гостям! Я сама…
Так и не поняла ничего толком Настасья: было ли что промеж них али не было ничего и ей попритчилось только?
А Семен этою ночью не спал совсем. Ворочался на постеле, откидывал душное пуховое одеяло, лежал, распахнув ворот нижней рубахи, слепо глядя в потолок, слушая, как темная кровь толчками ворочает сердце…
Скакал уже от Дмитрова, словно на волю вырвавшись из тюрьмы, блазнило: чудо какое впереди, на дороге! Думал – Новгород, ан, чудо оказалось здесь, в тверском терему… Ране того видел ли Марию, нет ли? И не вспомнит путем! Здесь же – как ослепило. На сенях, в темном повойнике, и ворот простой, черным узором обведен. Сперва, как подошла, чуть отворотя плечи, глянулся гордый очерк лица, точеный нос, и подбородок нежный, девичий, и долгие ресницы; а поглядела прямо – узрел широковатое лицо девушки, взрослое и детское одновременно, и большие беззащитные глаза – и утонул, умер, погиб. На руках бы унес, в терем посадил, на золотую постелю, и сам с мечом всю жизнь у порога простоял, охраняя ото всякой беды! Птицу бы Сирина добыл из земли индийской, камень Тирон или иное што! Такая-то вот, как в сказке молвится: заплачет, так бесценные жемчуга покатят из глаз… Всю жисть! Да иньше тово! И до жизни самой, еще тогда, когда душа токмо ждала воплощенья в телесном естестве, в тех мечтах, что, полузабытые, после, всю долгую земную стезю, снятся и помнятся и тревожат неземною усладой, – в тех еще мечтах ждал ее и чаял ее! И глазами теми, еще тогда, до начала времен, трепетно глянул на него один из серафимов божьих! И когда вздохнул и аромат ее тонкий, незримый вдохнул в себя, понял, что встретил, обрел и – теряет теперь, опоздав! Как он поспешил, зачем поспешил с этим нелепым смоленским сватовством! С Тверью, с роднею-природою загубленного Александра, с сестрою Федора… Господи, почто не дал ты мне сего искупленья в непростимом моем грехе!
И с чашею, и потом, после… Не мог не коснутись ее, хотя пальцем, и палец тот свят, и словно отверзлось што и молнийным током прошло от пальца того по руке, к сердцу, и сердце дрогнуло и остановило, замерло на миг и, с болью в груди, забилось опять, точно стиснутое от влажной прохлады ее ладони, от несказанной нежности мгновенного касанья сего…
Он лежал, сцепив зубы и смежив глаза, и только что не стонал, перекатывая горячую голову по взголовью. Жизнь наполнило смыслом, счастьем, и – поздно, поздно, поздно!
Каркает ворон над падалью, расхристанные струи дорог, ветер и тьма. Поздно, поздно, поздно! Кар-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р! Объеденный лошадиный костяк, волчьи тени и вой в придорожных кустах, и конь, что несет в опор, оборачивает морду и смотрит безглазо, и кости лошадиного черепа белеют сквозь черные дыры изъеденного лица, выклеванных воронами глаз. Поздно, поздно! Ты опоздал все равно! Смерть, а не конь несет тебя в вихре дорог, и гнилое мясо свисает с твоего чела. Смерть гонит тебя к последнему рубежу! И не будет золотого терема, не будет околдованного стража у ворот, не будет красы несказанной, не будет больших, беззащитных, испуганных нездешнею бедою глаз, ни детского чистого лица, ни нежного подбородка, ни ресниц, ни ускользающей, льющейся стройноты девичьей спины, затянутой в полотно и атлас, ни вильнувшего, оставившего по себе ветер надежды подола с мелькнувшею узорною тимовой новогородской выступкой; и шаг был колеблем и легок, и словно по воздуху шла, не касаясь тесовых половиц… Ветер, ветер! Рвет и мечет желтые листья, ветер осени и тоски, сырой и холодный ветр одиночества…
Он спал, разметав руки, тяжко ворочая воспаленное чело, спал и плакал во сне.
Глава 66
Светило солнце. Ледяной ветер пахнул весной. Он был молод, неистово молод! Тридцать лет, казавшиеся ему еще недавно возрастом старости, сейчас наполняли силой и волей все его существо. Он скакал, не слезая с седла, забыв про княжеский возок, тащившийся где-то назади, нюхал талый воздух, щурил глаза от весеннего сверкания снегов. И тени от берез были особенно сини на снегу и, промытое влажное небо – безмерно широким, и облака наплывали из дали далекой, от сказочных небывалых земель, и конь, чуя своего господина, нес его какою-то особенною танцующей рысью. И были сказочны рубленые, красиво оснеженные, с мохнатыми опушками кровель новогородские рядки и крепостцы, набитые товарами и народом, бойкие придверья великого торгового исполина.