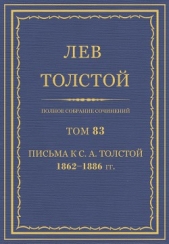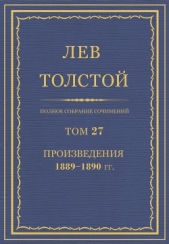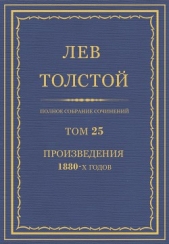Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы

Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы читать книгу онлайн
В книге публикуются воспоминания крестьян-толстовцев, которые строили свою жизнь по духовным заветам великого русского писателя. Ярким, самобытным языком рассказывают они о создании толстовских коммун, их жизни трагической гибели. Авторы этой книги — В. В. Янов, Е. Ф. Шершенева, Б. В. Мазурин, Д. Е. Моргачев, Я. Д. и И. Я. Драгуновские — являют собой пример народной стойкости, мужества в борьбе за духовные ценности, за право жить по совести, которое они считают главным в человеческой жизни. Судьба их трагична и высока. Главный смысл этой книги — в ее мощном духовном потенциале, в постановке нравственных, морально-этических проблем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я уже говорил, что у нас была своя школа со своими учителями. Я не учитель и не могу как следует рассказать о работе школы. Когда отобрали у нас здание школы, я на собрании коммуны с представителями гороно выступил, что если у нас отобрали школу, то мы будем заниматься в каком-либо жилом доме. Представители гороно сказали: мы и дом отберем, а я сказал: «До последнего дома будем отдавать под школу, но в вашу государственную школу мы своих детей не пошлем». Это мое выступление послужило обвинением на обоих судах: в 1936 и 1940 годах.
В 1933 году часть членов коммуны выделилась из состава коммуны и создала сельскохозяйственную артель «Сеятель». Выделились следующие друзья: Гриша Гурин (инициатор), Яков Калачев, Петр Каретников, Иван Чернявский, И. И. Андреев, Алеша Буланкин, Тимофей Моргачев, Миша Дьячков и другие. Этим выбывшим людям хотелось жить материально выше, чем мы жили в коммуне, так как у нас в коммуне было много инвалидов, стариков, вдов с детьми и многодетных. Но всех постигла одна и та же участь: в 1937–1938 годах было арестовано много мужчин и женщин, как членов коммуны, так и членов артели, и почти все они там погибли.
В коммуне велся учет рабочих дней, но без учета выработки, кто сколько сделал. Мы считали, что важно, чтобы у человека было желание трудиться честно, а у кого какие силы и кто сколько мог сделать, это не так важно. За невыход на работу никаких претензий не предъявлялось, хотя председатель обязан был выяснить, почему человек не вышел. Обычно это была или болезнь, или стирка, или побелка дома. За невыход на работу деньги не начислялись. За питание с членов коммуны и их семей никаких вычетов не производилось. На одежду, обувь, белье носильное и постельное выдавалось деньгами как взрослым, так и детям, из следующего расчета: в течение года выдавался аванс, а после отчетного года, когда был известен доход коммуны и количество выходов на работу, объединяли выходы мужа и жены, как семьи, и на каждого ребенка выдавалось 25 % зарплаты отца и матери вместе. На двух детей — 50 %, на трех — 75 % и т. д. Такая же установка была для инвалидов и стариков в семьях, инвалидам-одиночкам выдавалось по среднему заработку взрослого. В коммуне велась бухгалтерия, учет прихода и расхода денег, продовольствия, фуража, рабочих дней. На каждую семью и одиночку были открыты лицевые счета. Было на учете всё движимое и недвижимое имущество, а также скот.
Мяса в коммуне не ели, но продуктивный скот был, и возникал вопрос, куда девать молодняк и старых животных. Сначала этот вопрос обсуждался в частных беседах, а потом был поставлен на общем собрании и решили: старых коров держать до их естественной смерти, а ненужных бычков и телок раздавать на племя окружающему населению бесплатно, при условии, что они обязуются выращивать их на племя. Часть молодняка мы обменивали есаульскому колхозу «Пчела» на пчел. Бывали и такие случаи: возьмет человек бычка или телочку бесплатно растить на племя, а заведет в кусты, зарежет, и мясо — на базар в город.
Еще о чувстве собственности. Да, уважаемый читатель, трудно и очень трудно, и много надо мышления — обдуманно отказаться от личной собственности природному крестьянину. Когда его гнут и отбирают скот и другое имущество, он кряхтит и молчит. А когда он приехал в коммуну добровольно и сдал имущество свое не бесплатно, а по оценке, то жалко, и некоторым кажется, что лучше вернуться на родину. И он подает заявление о выходе. Коммуна рассчитывается с ним деньгами (натурой коммуна никому не возвращала), приезжает тот на родину и видит, что делается на родине: жить индивидуально невозможно — и поворачивает обратно в коммуну. Прокатал все средства. Подает заявление о приеме обратно в коммуну, вторично. Просит, чуть не плачет: примите, это была моя большая ошибка, что я уезжал. Вот такие-то люди не составляли крепости алмаза, а были слабым песочком, но коммуна принимала их обратно в свою семью. Личная собственность во многих семьях была причиной раздора, даже у единомышленников Льва Толстого. Он хочет с радостью вступить в коммуну, а жена его и слушать не хочет о коммуне, и начинается крик и плач. Но у нас не то что коллективизация, а дело свободное. Но ввиду такого раздора в семье многие убежденные люди всё сомневались, надо ли идти наперекор жене в коммуну. Правда, многие жены соглашались ехать в чужую страну, в далекий край, к единомышленникам не ее, а мужа; но приезжали не по сознанию, а по нужде. Вот из таких-то и образовались шептуны, т. е. недовольные не собою, а другими.
Многие, особенно женщины, жили в коммуне не как хозяева, а как рабочие: работали честно и всё.
Проработал я три с лишним года по сбыту и снабжению. Устал и надоело, попросил смены. Совет коммуны согласился при условии ознакомить с этой работой новых товарищей — Васю Бормотова и Егора Иванова. Я их ознакомил со всеми учреждениями и отдельными лицами, с которыми имел связь. А сам принял пасеку и приступил к новой работе — интересной, на лоне природы. Пасеку я перевел в лог против поселка барабинцев и работал в уединении.
Летом, наверное, в 1935 году вечером я пришел в коммуну, а жена говорит, что все члены совета арестованы, спрашивали и меня. Я говорю жене: «Я туда сейчас не пойду, до утра». Вдруг дверь отворяется и входит председатель Блинов и говорит: «Следователь просит тебя прийти, и тогда он всех нас распустит до утра». Ну, я согласился, и пошли вместе к следователю. Было часов 11–12 ночи. Когда я пришел, следователь и говорит:
— Ну вот, теперь все собрались, сейчас я от всех вас возьму расписку, что явитесь утром к девяти часам, а сейчас пойдете по домам.
Стали подписываться, но когда очередь дошла до меня, я отказался: «Может, я до утра помру, поэтому никаких обещаний не даю вперед, но я никуда не уйду и скрываться не буду». Отказались дать подписку еще Вася Бормотов и Вася Кирин. Следователь начал волноваться и говорит: «Я вас сейчас отправлю в тюрьму». Тогда Бормотов и Кирин подписались, а меня ночью отправили с милиционером в Сталинск, в ОГПУ, но там меня не приняли: не было письменной причины моего ареста. Тогда меня повезли в тюрьму. Там, конечно, приняли.
Дня через три меня повели на допрос в ОГПУ. Тот самый следователь говорит мне:
— Ты должен быть в числе обвиняемых как член совета, но мы решили — ты будешь свидетелем. Ты хорошо знаешь председателя?
— Хорошо, — отвечаю.
— Ну, расскажи, как он работает и кто к нему ездит в гости?
— Вы сами у него спросите. Он не уполномочивал меня говорить за него, а также ни о ком из членов совета я говорить не буду.
Разговор был долгий.
— О своей работе я могу всё рассказать.
— О твоей работе мы сами всё знаем.
Он пугал меня судом и тюрьмой, а потом достал книжечку — кодекс законов и зачитал мне:
— За отказ дать показания судебным и следственным властям подвергается тюремному заключению сроком от трех до шести месяцев. Понял?
— Понял, — говорю, а сам просто обрадовался, что срок небольшой, отсижу, а ни о ком ничего говорить не буду.
Следователь написал протокол, а я его подписывать не стал. Меня опять в камеру, в тюрьму. Дня через два опять к следователю, и я опять не подписываю протокол; тогда какие-то два человека заверили мой отказ от подписи и сами подписались.
Тем дело для меня в тот раз и кончилось. А членов совета — кого и на сколько осудили, я уже не помню. Раза два или три меня вызывали по этому делу в суд, но я не являлся.
В апреле 1936 года забрали десять человек: Мазурин, Пащенко, Епифанов, Гуляев, Драгуновский, Гитя Тюрк, Гутя Тюрк, Красковский, Барышева, Оля Толкач, а в мае взяли и меня, и пробыл я в заключении до июня 1946 года.
Начались допросы, все мы были разъединены по разным камерам.
На все вопросы следователя я отвечал только: я ничего плохого не делал никому, а вы хотите меня обвинить. И так на все вопросы.
Следователь ругался:
— Что ты, как попугай, затвердил одно? Отвечаешь не по существу…
И протоколов допросов я не подписывал ни одного. Я не помню, сколько времени велось следствие, но нас то перевозили в кузнецкую тюрьму, то в КПЗ в Первом доме. Кузнецкая тюрьма под горой, а выше, на уровне второго этажа, шла дорога. Щитков на окнах в 1936 году еще не было, и когда я видел, что по дороге идет кто-либо из коммуны, я пел в форточку стих, сложенный уже в тюрьме Мазуриным: