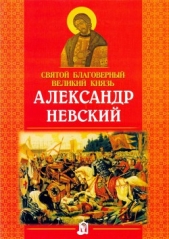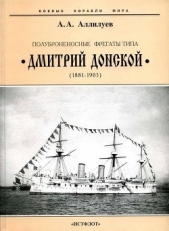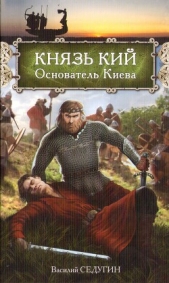Дмитрий Донской, князь благоверный (3-е изд дополн.)
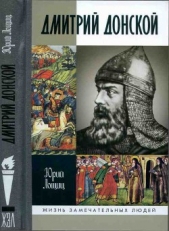
Дмитрий Донской, князь благоверный (3-е изд дополн.) читать книгу онлайн
Выдержавшая несколько изданий и давно ставшая классикой историко-биографического жанра, книга писателя Юрия Лощица рассказывает о выдающемся полководце и государственном деятеле Древней Руси благоверном князе Дмитрии Ивановиче Донском (1350–1389). Повествование строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и иных памятников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе с Ордой — его двоюродного брата князя Владимира Андреевича Храброго, Дмитрия Боброка Волынского, митрополита Алексея, «молитвенника земли Русской» преподобного Сергия Радонежского и других современников великого московского князя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Там же, где цифры всё-таки мелькают, они могут удивить своей скромностью. Псковский летописец говорит, что князь Довмонт однажды отправился против литовцев с дружиной всего в 270 копий, а в решающей схватке у него было только девяносто воинов — против семисот у противника. В другой раз тот же Довмонт разбил немцев на реке Мироковне «с шестьюдесятью муж псковичь». Малочисленность этих дружин неудивительна, если держать в уме, что русские земли в те времена были заселены совсем негусто. Те же псковичи при чрезвычайной мобилизации отбирали «с четырёх сох (крестьянских хозяйств) конь и человек». А при более благоприятных условиях на войну шёл «с десяти сох человек конны».
О битве при Калке известно, что экспедиционный корпус полководцев Чингисхана Судебея и Джебе, с которым пришлось столкнуться русско-половецкой рати, насчитывал около 30 тысяч человек. Но и Русская земля тогда ещё не была бедна воинами. Между Калкой и Непрядвой пролегли времена нашествия, русского бесправия, отчаяния. Но на этом же чёрном поле всколосились под конец надежды, явились новые богатырские силы. Не этим ли новым самочувствием нужно объяснить былинные преувеличения при подсчёте своей и вражеской рати, которыми полны «памятники Куликовского цикла»? Надо признать, что преувеличения эти приняло на веру большинство историков XIX века.
В советской военно-исторической науке преобладал более умеренный взгляд на соотношение участвовавших и уцелевших.
А. А. Строков в «Истории военного искусства» пишет, что против 130–150 тысяч татар Дмитрий Донской смог выставить около 100 тысяч ратников, из которых 50 тысяч пало во время сражения или скончалось позже от ран.
Другой военный историк, Е. А. Разин, в нарушение традиции умозрительного взгляда на предмет, предлагает несколько эмпирических способов исчисления величины русской рати. Первый из таких способов, основанный на приблизительном определении плотности населения «в великом Московском княжестве», позволяет ему сделать следующий вывод: «При высоком мобилизационном напряжении в 10 проц. могло быть собрано 25–30 тысяч воинов». Примерно столько же могли дать и остальные княжества, из чего исследователь заключает, что «общая численность русской рати, вероятно, не превышала 50–60 тысяч человек». К сожалению, не очень ясно, насколько можно полагаться на точность при определении плотности населения. Самое первое звено цепочки счёта выглядит недостаточно надёжным.
Остроумны, хотя также не во всём доказательны, другие способы замеров: историк прикидывает, сколько тысяч человек могло пройти по пяти (!) мостам донской переправы за 10–12 часов, и опять получается около 50–60 тысяч. (Но ведь по мостам — число их по летописям неизвестно — переправлялись пешцы, конница шла вброд.) То же число выводится из сложного расчёта плотности шеренг и их количества в глубину для пехоты и конницы, при условии размещения всей рати на фронте в 4–5 километров.
К летописному свидетельству о том, что русских осталось в живых 40 тысяч человек, Разин относится с доверием. Число же убитых, считает он, «возможно, немногим превышало 20 тыс., а с умершими от ран доходило до 25–30 тыс. человек».
Такое соотношение живых и погибших выглядит, конечно, более убедительно, чем легендарно-эпическое: один живой к десяти участникам.
Историк А. Н. Кирпичников, автор серьёзного исследования о ратных событиях 8 сентября 1380 года, приходит, пожалуй, к самым осторожным выводам относительно величины наших потерь на поле Куликовом. По его мнению, погибло около 800 военачальников и 5–8 тысяч рядовых воинов.
Но, к сожалению, в современную популярную литературу о Мамаевом побоище порой проникают цифры и подробности, не основанные ни на каких исторических источниках. Так, называют, ничем не подтверждая свои «открытия», численность отдельных русских полков, отдельных полков Мамая, даже количество телег в ордынском обозе (!).
К подвигу куликовских героев с почтительным и пристальным вниманием обращаются и ещё будут обращаться миллионы наших соотечественников. Обидно, если кто-то из них примет на веру подобную сорную цифирь.
Образец домысливания иного порядка: Ф. Ф. Нестеров в талантливой историко-публицистической книге «Связь времён» свою концепцию Куликовской битвы строит на противопоставлении двух сил, двух ратей: «слабейшая по всем статьям сторона нанесла сокрушительное поражение сильнейшей»; русское народное ополчение, «лапотная рать», состоящая на три пятых из пехоты, слабо обученная, одолевает силой духа прекрасно вымуштрованное войско Мамая, «которое почти полностью состояло из конницы». Такая картина также слабо увязана с историческими источниками. Ордынцы — свидетельствуют летописи — располагали крупным соединением наёмной генуэзской пехоты. Заранее узнав об этом, великий князь московский во время похода к Дону особо позаботился, чтобы укрепить своё ополчение именно «пешцами», которых у него был сильный недобор. Эта картина более сложна и реалистична. Иначе получается, что Дмитрий кинул в жерло битвы чуть не всё мужское население Руси (вплоть до тринадцатилетних подростков?!), а в частности «хладнокровно и обдуманно обрёк его (большой полк. — Ю. Л.) на почти полное истребление». Да, на поле у Непрядвы торжествовала жертвенная любовь, но то не была жертвенность смертников.
Мы никогда уже не узнаем точного числа русской рати, точного числа сложивших головы свои. Но с уверенностью можно сказать: никогда ещё до того дня на Руси не погибало за один раз столько воинов — мужей и юношей, князей и крестьян, пеших и конных. Цифры не в состоянии выразить того, что значила эта жертва для нашей земли.
Цвет стягов и хоругвей. Перед началом битвы «Дмитрий, — как пишет Карамзин, — простирая руки к златому образу Спасителя, сиявшему вдали на чёрном знамени великокняжеском, молился…». Как ни скептически настроен историк по отношению к «Сказанию», но этот сюжет он заимствует прямо оттуда: «Приехав государь к своему черному знамению и сседе с коня своего, припаде на колену свою со слезами молешеся…»
Карамзинское описание знамени оказалось настолько авторитетным, что с тех пор и в научной, и в художественной литературе, а также в изобразительном искусстве стало почти обязательным, говоря о русских знамёнах, стягах и хоругвях на Куликовом поле, подчёркивать и выделять эту их мрачную черноту.
Лишь изредка кто-нибудь засомневается, и тогда читаем нечто вроде поправки, объясняющей всё «ошибкой зрения»: «Тёмно-красный бархат великокняжеского стяга горел багрецом в лучах заходящего солнца, а в тени казался совсем чёрным». Но в большинстве описаний чёрный цвет всё же преобладает и иногда даже с траурным оттенком: «…пусть чёрное знамя Москвы, осеняющее их сейчас своим траурным полотнищем…» и т. д.
Но русское войско всё-таки не было войском смертников, оно шло на битву без всяких траурных намерений (само это новоевропейское понятие «траур» в сознании отсутствовало). Оно шло, чтобы победить и выжить, хотя и с предчувствием того, что это дастся ценой великих жертв. И хоругви, и стяги, под которыми шло наше войско, были иных цветов.
Иногда во всём повинна бывает маленькая грамматическая ошибка, скорее, описка. Вспомним, как князь Фёдор Чермный из-за маленькой оплошности летописца превратился через века в Чёрного. Похоже, так же точно произошло и с цветом великокняжеского знамени в «Сказании»: чёрный цвет появился вместо чермного, то есть червлёного, червонного, киноварного, алого. Ещё ведь в «Слове о полку Игореве» читаем: «Чрьлен стяг, бела хорюговь, чрьлена чолка». Или там же: «Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша».
Общеизвестно, как много значил красный, алый цвет в мировоззрении древнерусского человека. Красный означало не только красивый, прекрасный: красный молодец, Красная горка, Иван Красный… Это был цвет подвига и жертвы, цвет победы и праздника, цвет солнечного света, одолевающего тьму. На иконах в красном, багряном, порфирном писали обычно воинов-мучеников, великих князей, государей. Так, в киноварных одеждах мы видим Димитрия Солунского, а у Георгия Победоносца, поражающего змия, всегда развевается за спиной алый плащ и на древке его копья реет алый стяжец. Вообще в живописи цвет понимался строго символически и чёрный допускался лишь при изображении ада, нечистой силы; даже одеяния монахов-черноризцев писались не чёрным, а коричневым. Киноварью написаны все стяги русских ратей на знаменитой иконе XVI века «Церковь воинствующая», изображающей Казанский поход Ивана Грозного.