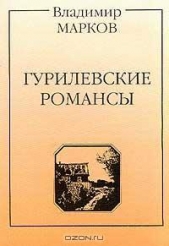Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов

Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов читать книгу онлайн
Эта книга — выходящий посмертно сборник работ петербургского историка и социолога Алексея Маркова (1967–2002). Основная часть книги — впервые публикуемая монография о петроградских студентах 1910-х — первой половины 1920-х годов как об особой общественной группе со своим набором ценностных установок, идеологических и коммуникативных практик. В приложении помещены статьи, посвященные эволюции образования, политикам тела и истории сексуальности в России конца XIX — первой трети XX века, а также проблемам современной отечественной гуманитарной науки.
Во всех работах А. Маркову были свойственны нетривиальный исследовательский подход и методологически заостренное видение. Поэтому его книга может быть интересной и нужной не только специалистам, но и всем читателям, интересующимся интеллектуальной историей России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако даже эти обнадеживающие примеры оставляют открытым вопрос об историко-психологическом исследовании любой «исчезнувшей» реальности. Не исключено, что подобное исследование вообще нереализуемо, по крайней мере с точки зрения современных стандартов социальной психологии. В рамках же истории следует говорить скорее о психологическом «векторе» исследования, рассматривающего эволюцию личности или группы. Тогда исторической психологии следовало бы ограничиться четким определением своей тематики и своего места на карте уже известных методов исследования. Более того, в одном и том же случае — как, например, в нашем, связанном с исследованием социальной психологии петроградского студенчества, — часто возможны оба подхода: «археология» современного нам российского студенчества или «герменевтика» студенческой корпорации 1910–1920-х годов. Выбор соответственно зависит от «цеховой» принадлежности исследователя: историк редко предпринимает малосовместимые с «обычаями» и языком профессии исследования «археологии» современности. Да и его ли это задача?
Еще один закономерный вопрос, связанный, однако, с вышесказанным, касается применения так называемых социапьно-психологических законов: вроде «закона внутригруппового фаворитизма — внегрупповой враждебности» Тэджфела [27]. Если в данном случае речь идет о некоем подобии «биологического принципа», в рамках коего может иметь место весьма разный социальный опыт, то едва ли подобные закономерности вообще должны интересовать аналитика социальных феноменов — они ничего не могут дать для понимания социального. Если же, напротив, преследуется цель вскрыть некую социально-психологическую специфику, то как она может быть интерпретирована абстрактно, раз и навсегда? Почему сознание и поведение человека ушедших эпох должны подчиняться правилам, действительным для наших современников? И кроме того, не являются ли часто эти «законы» лишь санкцией современного нам «ходячего здравого смысла», наделенного легитимностью, его оправданием — грубо говоря, политическими банальностями? [28] То есть нет ли обратного «закону» Московичи движения: от здравого смысла к научной гипотезе (что не отменяет возможности «взаимообмена»)? Высказывая тем самым известный скепсис в отношении сколько-нибудь значительной роли открытых социальными психологами регулярностей в исторических исследованиях, мы не хотели бы отрицать их значения в строго определенном смысле (правда, этот смысл еще предстоит очертить). В любом случае, мы находим возможным воздерживаться от ссылок на эти «закономерности» как нечто проясняющее.
Выбор общего кадра данного исследования спроецирован, таким образом, на наше профессиональное самоопределение как историка, с одной стороны, и историческое видение социальных реалий, включая самого человека как социального субъекта и научное знание о нем, — с другой. Если мы и предпринимаем историко-психологическое исследование, то прежде всего как историческое, хотя оно и не является сугубо толковательным: некий элемент «археологии» современного нам российского интеллектуала, студента в том числе, присутствует постоянно — ощущается это читателем (либо даже автором) непосредственно или нет. Ведь исследователь с его этикой незаинтересованности тоже представлен в изучаемом им предмете.
Читатель уже знает, какие именно задачи ставит себе автор и из каких теоретических посылок он исходит. Однако необходимо с самого начала ограничить рамки исследования, максимально четко определить его объект: реконструкция социальной идентичности студента Петрограда в пред- и послереволюционные годы могла бы занять не один том.
Студенчество, которое интересует нас, составляло некое воображаемое и в то же время реальное единство на протяжении 1860-х — начала 1920-х годов: сообщество, отделенное невидимыми, но более или менее четкими «границами» от профессуры (т. е. внутри университета) и от государства с его правительственно-бюрократическими структурами (вне высшей школы). В свою очередь, пятилетие 1921–1925 годов позволяет сконструировать по меньшей мере два «студенчества», находящихся в противоречивых или враждебных отношениях друг с другом, не «отменяя», однако, минувшего. Во второй половине нэповского десятилетия это реконструированное минувшее кажется «воскрешенным» (несмотря на будущий катаклизм «культурной революции» 1928–1931 гг.). Именно история разрушения/восстановления самосознания социальной группы оказывается в центре нашего внимания. Таким образом, риторика (дискурс) о единстве, парадигмы «общестуденческого языка», «разломы», наметившиеся в этой риторике в пред- и послереволюционные годы, становление новых «языков», их кризис и гибель к середине 1920-х годов могут быть определены как проблематика настоящей работы. Само их рассмотрение потребует анализа совершенно разных «разделов» студенческой риторики — от политики до быта и сексуальности, поскольку каждый из них по-своему высвечивает парадигмы группового языка.
Мы уже подчеркнули воображаемо-реальный характер студенчества. Его реальность тем более ощутима, что воплощена в жизненном мире студента эпохи, в его практиках повседневности. Он не только так говорил, он так жил, если вообще целесообразно ставить стену между языком и «реальностью». Поэтому трансформация жизненного мира — столь же важное измерение для нашего исследования, как и эволюция риторики. «Единство» реализовалось в забастовках и бойкотах, деятельности хозяйственных и профессиональных организаций, стандартах поведения и быта, зафиксированных (и формируемых) «социологами» того времени. Сходным образом «разладу» были присущи собственные практики: классовые организации, «чистки» с активным участием одной из сторон, поляризация традиционных форм студенческой активности (сходки, студенческие объединения различного характера и т. п.), дифференциация жизненных стандартов (не без участия социологов-статистиков).
Наконец, мы не склонны рассматривать все эти изменения, абстрагируясь от исторической конкретики. Нестабильность, непредрешенность результата суть свойства любой человеческой ситуации, тем более они бросаются в глаза в данный исторический момент. Как появлялись нормативные формы риторики и «жизни» студенчества, их неизбежно политический (т. е. принудительный, связанный с отношениями власти) характер — все это тоже в поле нашего внимания. Безусловно, ни один исследователь не в состоянии проанализировать всю мозаику деталей, составляющих историю той или иной этической нормы — будь то «дискурсивной» или «практической». Главное — предложить более или менее убедительную модель этой мозаики. Как «единство», так и «раскол» студенческой корпорации — «человеческих рук дело»: их интерпретация менялась в зависимости от ситуации.
Из вышесказанного читателю уже многое стало ясно в отношении метода (а отчасти и методик) нашей работы. И все же сделаем некоторые уточнения.
Оставаясь историком и следуя, до известной степени, требованиям профессионального характера, автор не намерен выходить за пределы профессионального языка. В то же время последний дан нам в исключительном многообразии минувших и ныне действующих историографических школ. Мы вдохновлялись поисками теоретического и конкретно-научного характера французской и англосаксонской историографии 1970–1990-х годов, имея в виду «Анналы», «Past and Present», «новую культурную историю». Таким образом, мы можем «черпать из разных рек», оставляя за собой право конструировать свою собственную модель.
То же можно сказать и о методиках конкретного характера. Мы отказались от использования «специальных технических средств» — контент-анализа, анализа дискурса (в узколингвистическом смысле) и т. п. Однако традиционное историческое «толкование» — это самовнушение прошлого, «каким оно действительно было» либо нам видится после «медитирующего чтения», — также не осталось в нашем активе в своей первозданной форме. Контроль за дистанцией, отделяющей исследователя от его объекта, настоятельно необходим. Хотя дистанция эта не представляет собой расстояния между различными логиками — скорее нужно говорить о ценностях.