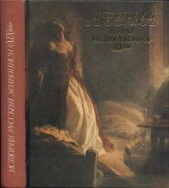Жизнь художника (Воспоминания, Том 1)

Жизнь художника (Воспоминания, Том 1) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что же касается Павловска, то я не могу причислить его к наиболее любимым в детстве местам. Позже я оценил всю его грустную поэзию, его зеленую, напитанную сыростью листву, его благородные классические дворцы, киоски, надгробия, мавзолеи, храм Дружбы и храм Аполлона. В детстве же вся эта поэзия, типичная для позднего XVIII века, наводила на меня уныние... однако, несколько уголков пленили меня и тогда, а именно знаменитый Павильон роз и не менее знаменитая Сетка.
Скажу еще два слова о Павловских настроениях. Будучи маленьким мальчиком я, разумеется, не давал себе в них отчета, но ощущал я их всё же в чрезвычайной степени. В Павловске всюду живет настроение чего-то насторожившегося и завороженного. Именно в Павловске легче всего испытать "панический" страх. Не даром именно в Павловске, в крутые годы царствования императора Павла, дважды произошли так и оставшиеся необъяснимыми военные "тревоги", заставившие все части войск, стоявших тогда в Павловске, без форменного приказа, в самом спешном порядке, стянуться к дворцу - точно там неминуемо должно было произойти нечто грозное и роковое. Не даром же и Достоевский в качестве сценария самых напряженных мест "Идиота" выбрал именно Павловск.
Это мрачное настроение, чему особенно способствует преобладание в парке черных и густых елей, царит в Павловске рядом с чем-то уютным и приветливым, и это соединение как-то по-особенному манит и пугает, куда бы ни направить свои шаги. В сумерки подчас такие смешанные чувства достигают чего-то невыносимого, если окажешься в эту пору где-нибудь в темных аллеях Сильвии с ее темными бронзовыми статуями, изображающими гибнущих от стрел Аполлона Ниобид, или перед сумрачным фронтоном мавзолея Павла или в запущенных просеках вокруг Круглого зала. И что же, даже в детстве, именно эта пугавшая меня мрачность оказывала в то же время притягательное действие, а впоследствии и говорить нечего, именно эта кошмарная, жуть, этот сказочный ужас особенно манили и пленили меня. Манила меня и Крепость - романтическая затея императора Павла, состоявшая из двух башен и дома, с перекинутым через ров подъемным мостиком, но больше всего меня в Павловске притягивал монумент Павлу I, что стоит перед дворцом и что изображает императора совсем таким, каким он был в жизни - с огромной треуголкой на голове, со вздернутым до карикатурности носом и в громадных ботфортах.
Глава 4
НАША СЕМЬЯ
Предки с отцовской стороны
Известно, что С.-Петербург, став в XVIII веке настоящей столицей, не пользовался симпатией остального Российского Государства. Что это было так в начале его существования, вполне понятно, ибо русским людям, привыкшим считаться с Москвой, как с сердцем России, было трудно поверить, что такое же и даже большее значение во всей их жизни получило какое-то новообразование, считавшееся сначала пустой, ничем необоснованной прихотью царя. Такое недоверие должно было особенно утвердиться в Москве, в этой первопрестольной, чувствовавшей горькую обиду за то, что ей, древней, священной и богатой воспоминаниями, предпочли какого-то временщика без роду и племени, к тому же обладающего отвратительным климатом и худосочной природой. Это презрение и прямо-таки ненависть продолжались и дальше. Ничего не противодействовало этим чувствам - ни величественная красота нового города, ни блеск его жизни (блеск, главным образом, сообщавшийся двором), ни расцвет культуры, - то, что именно в Петербурге величайшие русские художники слова, кисти и музыки имели свое пребывание, и даже вдохновлялись им. "Настоящему" русскому человеку всё в Петербурге претило и он продолжал в нем видеть чужестранца...
На самом же деле Петербург, несмотря на миссию, возложенную на него основателем, и на то направление, которое было дано им же его развитию, если и рос под руководством иностранных учителей, то всё же не изменял своему русскому происхождению. Это "окно в Европу" находилось всё же в том же доме, в котором жило всё русское племя, и это окно этот дом освещало. С другой стороны, естественно, что в силу самого его назначения, в Петербурге жило не мало самых разнообразных иностранных элементов. Замечательно и то, что из очень многочисленных христианских храмов в Петербурге значительное число принадлежало иным вероисповеданиям, нежели православному, и в этих церквах служба и проповедь происходили на немецком, польском, финском, английском, голландском и французском языках. Паства этих церквей была исключительно иностранного происхождения, но в значительной своей части она ассимилировалась с русским бытом и пользовалась в своем собственном обиходе русским языком."
Нечто аналогичное уже знала Москва -в знаменитой Немецкой Слободе, которая постепенно образовалась из иностранцев, массами селившихся по приглашению Москвы, закосневшей в стародавних навыках и потому нуждавшейся в более передовых элементах. Но в Москве чужестранцы жили отдельным, отгороженным от всего, пригородом, куда русские люди почти не имели доступа и которые сами могли обходиться без того, чтобы прибегать к непосредственному постоянному общению с московским людом. Это было нечто, вроде тех концессий, которые существуют на Востоке или еще вроде гетто в еврейском средневековье. Такого обособленного города - при городе в Петербурге не было, а напротив, правительство Петра и его преемников всячески поощряло смешение своих подданных с пришлыми элементами, продолжавшими насаждать желанную (и необходимую) заграничную культуру. Если иностранцы в Петербурге и имели известную наклонность селиться группами по признаку одинакового происхождения, то это делалось свободно и из чисто личных побуждений. Вообще же иностранцы, частью вполне обрусевшие, жили в Петербурге (да и по всей России) в разброску и если можно говорить в отношении Петербурга о какой-то Немецкой Слободе, то только в очень условном и переносном смысле. Такая "слобода" существовала только "в идее", и это понятие не соответствовало чему-либо топографически-обособленному.
К составу такой идеальной Немецкой слободы принадлежала и наша семья. Несмотря на столетнее пребывание в Петербурге, несмотря на то, что наш быт был насквозь пропитан русскими влияниями, несмотря на русскую прислугу, семья Бенуа всё же не была вполне русской, и этому в значительной степени способствовало то, что наша религия не была православной и что большинство браков нашей семьи происходило с такими же потомками выходцев из разных мест, какими были мы. Чисто русские элементы стали постепенно проникать посредством браков в нашу семью лишь к концу XIX века и вот дети, рождавшиеся от этих браков, крещенные по православному обряду, постепенно теряли более явственные следы своего происхождения и, только по-иностранному звучавшая фамилия, выдавала в них то, что в их жилах еще течет известная доля французской, немецкой или итальянской крови.
Фамилия Бенуа - родом из Франции, из провинции Бри, из местечка Сент Уэн, находящегося где-то неподалеку от Парижа... Мы не можем похвастать благородством нашего происхождения. Самый древний из известных нам предков Николя-Дени Бенуа значится на родословной, составленной моим отцом, в качестве хлебопашца, - иначе говоря, крестьянина. Женат он был на Мари Леру, очевидно тоже крестьянке, но уже сын их - Николя Бенуа (1729-1813) успел значительно подняться по социальной лестнице. Этот мой прадед получил достаточное образование, чтобы самому открыть школу, в которой воспитывались и его собственные дети. С ним я уже как бы знаком лично. Пастельный портрет его, копированный моей теткой Жанет Робер с оригинала, оставшегося во Франции, изображает окривевшего на один глаз, очень почтенного и милого старичка. Его доверху застегнутый сюртук зеленоватого цвета выдает современника тех старцев, которые фигурировали на картинах Грёза; под рукой у него книжка с золотым обрезом. Чему учил, где и как, Николя Бенуа, я не знаю, но, вероятно, он был педагогом по призванию, так как иначе трудно было бы объяснить, почему он отказался от профессии дедов и избрал себе иной жизненный путь. Лицо на портрете прадеда мягкое, доброе и несколько скорбное. Моральную же характеристику мы находим в тех стихах, которые были сочинены его сыном (моим дедом) и которые в рамке под стеклом красовались под помянутым портретом, висевшим в папином кабинете, стены которого были сплошь покрыты семейными сувенирами.