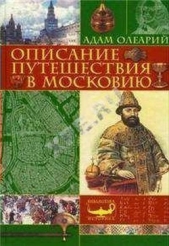Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина

Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина читать книгу онлайн
«Руси есть веселье питье, не можем без того быти» — так ответил великий киевский князь Владимир Святославич в 988 году на предложение принять ислам, запрещавший употребление крепких напитков. С тех пор эта фраза нередко служила аргументом в пользу исконности русских питейных традиций и «русского духа» с его удалью и безмерностью.
На основании средневековых летописей и актов, официальных документов и свидетельств современников, статистики, публицистики, данных прессы и литературы авторы показывают, где, как и что пили наши предки; как складывалась в России питейная традиция; какой была «питейная политика» государства и как реагировали на нее подданные — начиная с древности и до совсем недавних времен.
Книга известных московских историков обращена к самому широкому читателю, поскольку тема в той или иной степени затрагивает б?льшую часть населения России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для небогатых горожан из «подлых» сословий трактиры заменяли и театры, и клубы. Во многих трактирах имелись музыкальные машины (оркестрионы), собиравшие любителей подобной механической музыки. В начале XX века оркестрионы были вытеснены оркестрами, однако трактиры со старыми машинами стали пользоваться особой популярностью: туда специально съезжались любители «попить чайку под машину». Тогда же в трактирах появился граммофон, чей репертуар в одной из московских пивных в 1911 году состоял из следующих «пьес»: «Вот мчится тройка почтовая», «Вниз по матушке по Волге», «Карие глазки, куда скрылись», «Ой, полным-полна коробочка», марш «Под двуглавым орлом».
Среди любителей народной музыки особенно были известны трактир на Немецком рынке и «Милан» на Смоленском рынке. В «Милане» выступал выписанный из Петербурга хор Молчанова; в специально оборудованный зал съезжалась постоянная публика послушать любимого тенора, и в старости сохранившего красивый голос. Осип Кольцов пел в трактире на Немецком рынке и не знал себе равных в артистизме исполнения русских песен, завораживая слушателей. Его любили и за приговорки на злобу дня, которыми он перемежал свои песни.
В трактирах звучали цыганские гитары еще до того, как цыганские хоры стали выступать в дорогих ресторанах. Трактирные музыканты и певцы исполняли песни, которые быстро становились популярными. Грустная «Не брани меня, родная» после обеда с водочкой и цыганским хором сменялась озорной, вроде «Сарафанчика-расстеганчика»:
Под вечер в благородной компании слышалось «Не за россыпь кудрей, не за звезды очей» или «Радость — мгновенье. Пейте до дна!». А затем публика отправлялась к цыганам слушать «Любушку-голубушку».
Менее известные трактиры встречались на окраинах Москвы — например, на южной дороге стояли трактир Душкина и ряд других у села Нижние Котлы: здесь находили пристанище гужевые извозчики и украинские чумаки, паломники от киевских святынь, отставные солдаты из-под Севастополя или Варшавы. «Бывало, замерзнет зимним студеным или непогожим днем какой-нибудь "севастополец" или "николаевец" из-под Варшавы, — вспоминал завсегдатай этих кабаков, — поднесешь ему стаканчик вина да щей нальешь, и он начнет свои рассказы о Севастополе, о Польше, и долго, бывало, слушаешь его и жадно запоминаешь.
— А куда же ты бредешь, кавалер? — задашь ему вопрос. — А до дому. В Костромскую, стало быть, губернию. — Да есть ли у тебя кто дома-то? — снова спросишь его. — А кто е знает. Чать, все померли. Как в службу ушел, ни весточки не получал. Двадцать пять лет вот царю и отечеству прослужил и теперь остался, должно быть, один у Бога, как перст. А была жена молодая и детки уже было пошли, — грустно заключит он и смахнет тяжелую, невольную слезу. А иной, чтобы забыться, под лихую гармонику да гитару в задорный пляс пойдет. А там разом оборвет да и промолвит: — Довольно наплясался за службу-то. Поиграли по спине палочками — словно на ней струны натянуты… Пора до дому, к погосту ближе. — И, укрывшись от холода чем можно, скажет: — Прощайте, благодарю за угощение! — и зашагает вдоль дороги к Москве, а в лицо ему вьюга хлещет…
Любил я в такие дни поторчать в кабаке и послушать рассказы бывалых людей. Заходили отдохнуть богомольцы и из Киева, это летом больше. Усядутся у кабака на траве и пойдут выкладывать о святынях Киева, о нем самом, о пути туда, и их слушаешь развеся уши. Были удивительные мастера рассказывать. Были между ними и прямо поэты; он тебе так иное место разукрасит, что и не узнаешь его, когда попадешь туда потом. Наговорит тебе о чудных, ароматных ночах в степи, о темно-синем, усеянном звездами небе, которые так близко, что хоть руками хватай, о голубоватой луне, о реках, что широким раздольем разлеглись в степях, о певцах-бандуристах и о добром и ласковом привете хохлов» {45} .
В дореформенное время в них гуляла и городская голытьба, беспаспортные и беглые крестьяне, подобно задержанному в 1813 году бесхитростному Ивану Софронову который «по неимению письменного у себя виду, после священнического увещевания допрашиван и показал… От роду 19 лет, грамоте не умеет, холост… На исповеди и у святого причастия не припомнит когда был… Остался от отца своего и матери сиротой в малолетстве и не имел никого сродников и у кого в деревне Борковке и кем воспитан совершенно не упомнит, только знает, что отец его переведен в оную из деревни Бахиловой, неподалеку стоящей от Борковки, в коей он находился в работниках у тамошних крестьян Софрона и Василия Маминых… от коих года тому с два бежал без всякого от кого-либо подговору, от единственной глупости, однако ж, не учиня у них никакого законо-противного поступка и сносу. Шатался по разным местам. Под видом прохожего имел пропитание мирским подаянием. Пришел сюда, в Москву сего года в великий пост… Пристал на площади к поденщикам неизвестным ему каким-то крестьянам, работал с оными в поденной работе очисткой в сгоревших каменных палатах разного сору с землею на Покровке… там и ночлег имел в подвалах, о письменном виде никто не спрашивал… Наконец, будучи с каким-то неизвестным ему какого звания человеком, таковым же праздношатающимся, как и он, Софронов, в Таганке в трактире напившись пьяным, взят в таганскую часть» {46} .
В некоторых трактирах заседали отставные мелкие чиновники или просто писцы, занимавшиеся составлением прошений, писем и прочих бумаг, что необходимы были приехавшим в город по базарным дням окрестным мужикам. Среди таких трактирных «адвокатов» порой попадались настоящие знатоки, которые брались за любое дело; твердой платы за их услуги не существовало, и клиенты отчаянно с ними торговались.
«Ведь ты подумай, — толковал он, — брат маленький был, а я работал. Брат в службе служил, а я все работал, все приобретал, все строил. А мир-то вон как говорит: все поровну. Разве это закон? Да и волостной-то у нас такой же. Теперь вот и судись, как знаешь. Куда теперь обратиться-то? — Нужно подать прошение в уездный земский суд, — безапелляционным тоном говорил Сладков. — Так. А я думал к мировому? — Нет. Мировой тут ни при чем. — Так. Ну, а сколько ты, батюшка, ты возьмешь с меня за это прошение? — Целковый-рубль. — Целковый? Нет, ух так-то очень дорого, Александр Григорьевич. Ты возьми-ка подешевле. — А сколько же ты дашь? Ведь тут надо до тонкости дело-то разобрать. — Да оно так-то так, конечно, надо написать порядком, — вытягивая каждое слово, говорил мужик, — да это уж очень дорого. — Ну, так по-твоему сколько же? Говори! А то меня вон в ту каморку еще звали. — Да, положим, у вас дела есть. Как не быть дела у такого человека. Да только целковый-то, все-таки, дорого. Нельзя ли подешевле? — Да что же ты не говоришь, сколько дашь? Ведь не двугривенный же с тебя взять. — Само собой не двугривенный. Да и так-то уж дорого», — описывал трактирный торг с таким «адвокатом» присутствовавший при этом неудачливый торговец-букинист и горький пьяница Николай Свешников {47} . [см. илл.]
Опубликованные в 1897 году сведения о санитарном состоянии Петербурга дают представление об устройстве трактиров, делившихся на три разряда: «для чистой публики», «простонародные с чистой половиной» и «исключительно простонародные». «Чистые трактиры и даже второклассные рестораны — все занимают большие помещения, состоящие из семи, восьми и более, иногда до пятнадцати комнат, высоких, просторных; общие комнаты и часть кабинетов имеют окна на улицу, так что света в них достаточно; меблированы они хорошо; мебель как в общих комнатах, так и в кабинетах преимущественно мягкая; на окнах занавеси из такой же материи, какой крыта мебель. Полы большей частью паркетные; потолки хорошо выбелены, к ним подвешены люстры; стены оклеены хорошими обоями и содержатся довольно чисто; на стенах зеркала, картины и бра. Освещаются они керосином или газом». Обычный трактир «состоит из двух отделений: чистой и черной половины. Первая помещается во втором этаже, вторая — чаще в первом. В первой комнате чистой половины устроен буфет. В этой комнате, как и во всех остальных, стоят столы, покрытые белыми скатертями, и мягкая мебель. В одной комнате устроен орган. Чистая половина состоит из трех-четырех столовых общих и двух—четырех отдельных кабинетов. Черная половина состоит из двух—четырех комнат. Здесь мебель простая, столы покрыты цветными скатертями». Там находилась русская печь с закусками из рубца, капусты, колбасы и селянки на сковородке. Столы с грязной посудой, густой табачный дым, шумные разговоры — здесь гуляла публика попроще: чернорабочие, извозчики, разносчики.